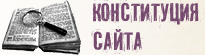09.12.08
Отрывки из воспоминаний Алэн Польц. "Женщина и война"
Я думаю, если бы женщины были склонны к писанию мемуаров, мы имели бы неисчислимое множество примеров будничного героизма. Героизма, направленного не на то, чтобы восторжествовать над кем-то, а на то, чтобы кого-то спасти: цель нормальной женщины не победа, а мир и согласие, гармония. Жизненный подвиг Алэн Польц, боюсь, не каждый даже и сочтет подвигом: она не бросалась с гранатой под танк, она не бросала вызов деспотизму — она всего лишь изо всех сил стремилась исполнить свое земное назначение: нести самоотверженность тем, кого любила, и порядочность всем остальным. Нет, больше чем порядочность — доброту. Россия, где эффектному подвигу готовы противопоставить разве что подвижничество, кажется, так и не расслышала Льва Толстого: Наполеона победили мужики Карп и Влас, не пожелавшие везти ему сено. Тем не менее можно продолжить: зло при всех своих явных преимуществах так до сих пор и не сумело стереть добро с лица земли оттого, что такие вот наивные милые девочки, пройдя через чудовищные муки и унижения, все-таки ни на миг не согласились признать жестокость и низость нормой.
Алэн Польц рассказывает о своей жизни с предельной простотой, но ее история в умелых руках вполне потянула бы на голливудскую мелодраму с хэппи эндом, ибо мы беседовали с Алэн об ее книге в ее просторной аристократической квартире среди избранного общества, которое особенно украшал ее муж Миклош Мессей, седовласый красавец и европейски знаменитый писатель. Сама Алэн — известный в Венгрии психолог, до сих пор работает в хосписе и сетует, что в нынешней погоне за деньгами люди забывают обо всем, что могло бы их поддержать перед лицом смерти. Описать сочетание усталой доброты, мудрости и чистосердечия в ее лице было бы по силам разве что Рембрандту. Кажется, ее больше всего беспокоило, не оскорбит ли русского читателя описание надругательств, учиненных когда-то над нею нашими соотечественниками, и она повторяла, что венгры в России наверняка вели себя не лучше и что немцев она боялась больше, чем русских: если немцы пообещают расстрелять, значит, точно расстреляют, а русские вполне могут вместо этого и накормить. Это одичавшие дети, презиравшие страх и боль, увы, не только свою…
Попутно к сведению российских судов, никак не умеющих разобраться, что такое разжигание национальной розни, — это самое разжигание едва ли не в большей степени заключается не в том, что говорится (если, конечно, это не прямая ложь), а в том, что умалчивается. Если действительно рассказывать всю правду о любом народе даже в самых неприглядных его проявлениях, то рядом с отвратительным непременно окажется и что-то достойное восхищения. Мне кажется, книга Алэн Польц служит так называемой дружбе народов в гораздо большей степени, чем все умалчивания былой советской пропаганды, еще и потому, что дружить народам до крайности мешает их преувеличенное представление о собственной безупречности. В нашем будапештском разговоре Алэн мимоходом упомянула о молоденьком русском солдате, который в пятьдесят шестом году брел по расстрелянному Будапешту с такой тоской в глазах… Разглядеть тоску в глазах победителя — какой еще “дружбы” можно желать!
В заключение добавлю, что воспоминания А. Польц вышли на русском языке в будапештском издательстве “Понт” в рамках программы “Корнфлюкс”, что означает приблизительно “созвучие”, “согласие”. “Понт” издает одну и ту же книгу сразу на нескольких европейских языках, что резко ускоряет процесс культурного обмена: в обычном случае книга, даже имеющая успех, переводится на другие языки спустя целые годы. Вот только наша общая проблема — распространение — при разделяющей государственной границе становится еще более острой. Поэтому, пока продукция издательства “Понт” еще не сделалась общедоступной — в Россию попали считанные экземпляры, — мне хочется, чтобы как можно больше людей прочли эту потрясающую книгу. Хотя бы в отрывках. Не уподобляясь потрясенной матери Алэн: “Доченька, скажи, что это неправда!” Если это и не вся правда, то это та правда, которую мы обязаны знать.
Александр МЕЛИХОВ
Мы с нетерпением ждали прихода русских или англичан. Мы были беззащитны, ведь всех нас могли уничтожить в любую минуту. Партизаны, немцы, жандармы, да хоть бы и венгерские солдаты. Солдаты? Офицеры — может быть, по приказу. Разве тогда кто-то верил еще в победу немцев? И все-таки — чрезвычайное положение, и расстрелы были сплошь и рядом. Согласно указу о чрезвычайных мерах, к стенке могли поставить кого угодно. Никто не знал, чего или кого боится другой. Несмотря на это, все мы каким-то образом доверяли друг другу, доверяли даже незнакомым. Приказы тогда отдавались чаще, чем приводились в исполнение.
В связи с этим мне вспоминается такой анекдот:
Один мюнхенец спрашивает другого: “Скажите, вы верите в победу фюрера?” Тот внимательно оглядывается по сторонам… уводит спросившего в подворотню, там опять оглядывается, делает знак, отводит в дальний конец сада, видит стог сена, снова делает знак, оба забираются туда, он наклоняется к его уху и шепчет: “Лично я — да”.
Сейчас я вспоминаю, что в то время шли разговоры о новом секретном оружии… Что случилось бы, окажись тогда у немцев атомная бомба? Насколько мне известно, Венгрия фигурировала в списке не народов-слуг, Dienstvolk, а наций, подлежащих истреблению. Такова была гитлеровская классификация народов. Как могли стать ее жертвой евреи? А немецкий народ — как мог он стать убийцей? И не успели мы прийти в себя, как на смену фашизму пришел сталинизм, истребляя миллионы во имя идей классовой вражды. Как могли пасть ее жертвой русский народ и столько народов мира?
Ответа для меня не существует. Лишь один: “Господи, помилуй нас!”
Когда дядя Енё с женой и Марци уехали и Мами1 перебралась к нам, Лапочка вдруг развеселилась.
Может, настроение у нее поднялось оттого, что в комнате остались только мы с Мами (мужчины опять были на охоте); она принялась скакать — прямо в пляс пустилась. Огромными прыжками она перескакивала через стулья, взлетала в воздух. Мы с Мами смеялись, глядя на нее. Я как раз хотела подать кое-что к праздничному ужину и посмотреть, как дела у наших “поваров”, когда мы услышали шум моторов. Мы очень удивились: ведь, насколько нам было известно, сюда, на гору, машины еще никогда не поднимались. Даже лошадям было трудно втащить наверх телегу. Мы выскочили наружу. Перед домом стояли две немецкие военные машины. Одна была вроде грузовика, но все-таки не грузовая. Из нее выпрыгнули трое офицеров, я разглядела головы нескольких солдат. Моторов они не глушили. Офицеры подошли к нам и потребовали, чтобы мы немедленно сели в машины: через пару часов здесь будут русские. Из этого дома жандармы устраивали облавы на партизан (на самом деле к нам они заходили погреться), и в отместку нас всех здесь перережут, а дома спалят дотла.
Мами так побледнела, что едва могла переводить слова немца, и беззвучно разрыдалась. “Здесь нет мужчин, — ответила я, — мы не можем уехать, пока они не вернутся”. — “Они не вернутся”, — уверенно заявили офицеры. “Я не поеду”, — сказала я. “Тогда я тоже остаюсь”, — добавила Мами.
Я побежала в дом и спросила остальных, что они хотят делать. Конечно же, уезжать они не хотели. Им, евреям, было бы непросто принимать помощь от немцев.
Последовали поспешные уговоры, но я только качала головой: “Ich kann nicht deutsch sprechen und ich gehe nicht”2.
Тогда они спросили, есть ли у нас оружие. “Это — пожалуйста”, — отвечала я и с готовностью, даже с радостью отдала все оружие, что было в доме: от дорогих бельгийских охотничьих ружей до русских автоматов, все патроны, шомпола и, конечно же, гранаты. Я просто поразилась, когда двое солдат вынесли патроны и гранаты; я выбрасывала их в корзину для дров, она заполнилась наполовину. Гранаты я особенно ненавидела. Однажды, когда у нас еще были жандармы, Марци вбежал в комнату, скинул рубашку и сказал: “Не сердитесь, но мне надо раздеться; выньте мне побыстрее из спины осколки”. Я вытащила из его спины семнадцать деревянных щепок. Одного жандарма ранило в лицо, его перевязали товарищи. Ранило и еще кого-то из наших (уже не помню, кто это был) в голову. Во время этой операции руки у меня дрожали, так что мне помогал дядя Енё. Они говорили, что Янош не пострадал; но я не могла этому поверить: тогда почему его нет?
А произошло следующее: они заинтересовались, как устроена советская ручная граната — тогда они только что захватили такие у партизан, — и разобрали ее, а взрыватель загорелся. От взрыва раскололась столешница. Они тут же бросились на пол лицом вниз. Так щепки и попали Марци в спину. На столе лежали еще три неразобранные гранаты; если бы они тоже взорвались, никто из тех, кто был в комнате, не остался бы в живых.
Словом, я была рада, что сдала оружие. Немцы быстро погрузили его в машину. Один из офицеров протянул мне руку. Когда я взяла ее, он резко схватил меня за руку и втолкнул в машину. Я стала яростно отбиваться, вырвалась, выпрыгнула из тронувшейся машины. Конечно, я упала на землю, но тут же вскочила и погрозила им кулаком.
Эта сцена до сих пор меня забавляет. Кому я могла угрожать в машине с солдатами, набитой оружием?
Впрочем, немцы могли бы забрать нас с собой насильно, если бы захотели. Но почему же они хотели, чтобы мы поехали с ними? Почему втащили меня в машину? Над этим я часто ломаю голову. Если они хотели разграбить дом, они могли это сделать и так. В случае сопротивления они могли перестрелять нас из сданного мной советского автомата, а потом свалить все на партизан — разве что их вообще кто-нибудь стал об этом спрашивать! Может, им действительно было жаль нас, и они хотели нас спасти?
Наконец вернулись мужчины. Какая радость, какое счастье! “Ах, эти немецкие свиньи!..” Как, я сдала оружие?! Они так разозлились, что чуть не разорвали меня. Что нам делать без оружия? Что с нами теперь будет? (Я была рада, что мы избавились от оружия, но помалкивала.) Между тем у одного из французов в кармане остался маленький пистолет. Тогда мы еще об этом не знали. Он ничего не говорил.
А я наряжала рождественскую елку. Только мы зажгли свечи, как в дверь постучали венгерские солдаты-дезертиры. Мы впустили всех. Такой у Яноша был принцип (и у меня тоже). Разве можно оставлять человека на улице, в зимнюю стужу, без помощи? Мы наскоро переодели их в штатское. Солдатскую форму забросали навозом.
Я раздала всем рождественские подарки, шоколад, сигареты, карандаши, каждому достался праздничный ужин и вино. Бедняги, они благодарили нас со слезами на глазах.
Такой у нас был сочельник. Растроганные, мы праздновали Рождество Христово, ожидали Спасителя. А вокруг — заснеженный лес и шестнадцать собак… Они получили по куску колбасы из оленины. Конечно, пили мы и вино. Все обняли нас, расцеловали, и мы вернулись в свою комнату. Мами укрыла меня одеялом и снова поцеловала. Янош не промолвил ни слова. После того, как погасили свет, я ждала, прислушивалась. Напрасно! Он не пришел, не позвал меня. Я забралась к нему под одеяло. “Иди к себе, — сказал он, — Мами услышит”. Меня вдруг забила такая дрожь, словно начался озноб. Я сжала зубы, но не смогла ее унять. Не говоря ни слова, я легла обратно на свой матрас. Заснуть я долго не могла. На следующее утро проснулась с тяжелым сердцем. Первый день Рождества! Для меня это всегда был радостный семейный праздник. Свет, сияние, смех. (У меня было много братьев, сестер.) Я с трудом держала себя в руках. Завтракали мы в полном молчании.
То утро глубоко врезалось мне в память. На мне был длинный, до полу, красный блестящий пеньюар — по случаю праздника. Намазывая хлеб медом, я выглянула на улицу, в снегопад. Снег валил крупными хлопьями. Во дворе я разглядела две занесенные снегом фигуры — верхом, в маскировочных халатах с капюшонами, словно видение!
Они выглядели совсем не так, как венгерские или немецкие солдаты. Может, из-за облепленных снегом капюшонов и красных звезд на меховых шапках, видневшихся из-под них; но и лица у них были другие. “Русские!” — воскликнула я, вскочив, и показала в окно. Из соседней комнаты вбежали Фёрштнер и двое французов.
В следующую секунду дверь была выбита сапогами, и в проеме, весь в снегу, появился солдат с автоматом наперевес. Ствол он по очереди наводил на каждого из нас, без единого звука. Каждый раз я смотрела не на дуло автомата, а на того, в кого он целился. Все менялись в лице, у кого-то глаза широко раскрывались, у кого-то сощуривались… но не только это. Было и другое. (Мне потом часто приходилось наблюдать эту игру страха на лицах.)
На секунду настала изумленная тишина. Потом нас о чем-то спросили по-русски. Мы не понимали.
Фёрштнер принялся объяснять, испуганно, но на чистейшем немецком языке, что мы — дипломатический корпус и так далее. Он сильно побледнел. Я испугалась: идиот, кому же он тут по-немецки толкует? И перебила его. “Венгерски”, — сказала я, показывая на нас. “Евреи”, — показав на Фёрштнера. “Руски сольдат добре. Немецки не добре”. Услышав это, они немного смягчились.
Нас согнали в угол. Спрашивали, есть ли оружие? “Нет”. Вбежали несколько солдат, начали обыск. В считанные секунды они перевернули дом вверх дном, все перетрясли, разбросали, прочесали. Потом обыскали всех нас. В кармане у француза нашли пистолет. “Зачем он тебе? За это — расстрел”. Теперь я увидела страх на лице у француза. Тот самый страх.
Их части с боями прошли всю Румынию, и они немного понимали по-румынски. Мы быстро об этом догадались, и я стала переводить. (Я сказала им, кто мы такие, но их это не интересовало.)
Еще не увели француза, а в дом уже втащили венгерского солдата, одного из тех, кого мы приютили. В кармане у него обнаружилось какое-то удостоверение. Не знаю, что это была за бумага, мне не дали на нее посмотреть. Переводить было не нужно, потому что этот рослый, бравый парень с добрым, типично венгерским лицом вдруг бегло заговорил по-русски. Но по его напряженному виду чувствовалось, что его обвиняют. Он мучился, маялся, но, видимо, оправдаться было нечем. Его увели. Из-за дома послышались три коротких, отрывистых хлопка. Янош кивнул мне, когда я вопросительно взглянула на него: сейчас — убили. Потом увели и француза (на следующий день он вернулся — бледный, разбитый).
Все произошло чрезвычайно быстро. После этого на нас никто больше не обращал внимания. На нас смотрели как на неодушевленные предметы. А мы натыкались на них на каждом шагу, ведь в каждую комнату набилось человек по тридцать—сорок. Невозможно было пошевелиться. Всем хотелось согреться. Не успели мы глазом моргнуть, как конюшня была переполнена, да и в саду, под деревьями, были привязаны лошади, покрытые шинелями, маскхалатами, одеялами. В том числе, конечно, и нашими, стегаными. Они брали все, что было в доме; им даже не приходило в голову, что это — чужое. Если мы сидели или стояли, они нас не трогали — если только им не нужно было именно это место. Тогда нас просто отталкивали в сторону с величайшим равнодушием и безразличием. Ночью мы сидели на корточках в углу или спали втроем на одном матрасе. Как ни странно, матраса нашего они сторонились. Если иногда и присаживались на краешек, то ложились на него редко.
Однажды вечером, еще в первые дни, Мина вошла и сказала: “Представляешь, они притащили тушу косули из нашей кладовки и всю разделали. Двое солдат провертывали мясо (у нас было две мясорубки), третий взял немного снега, протер им пол и прямо там, на полу, начал месить фарш. Он засучил рукава гимнастерки, руки у него до запястий — черные, а выше — белые”.
Мясо они готовили так: солили, приправляли чесноком и лавровым листом, потом поджаривали в жиру большие овальные котлеты. Естественно, вся эта уйма людей моментально уничтожила наше драгоценное замороженное мясо. Но они ели все, что попадалось под руку. Я не видела у них ни мешков с провизией, ни полевых кухонь. Казалось странным, что, в отличие от венгерских и немецких солдат, они не носили с собой ничего, кроме личного оружия. За голенищем у них были ножи. Заплечных мешков или сумок просто не имелось. Одеяла им были не нужны, потому что в своей ватной стеганой одежде и меховых тулупах они могли спать хоть прямо на снегу.
Тем же вечером офицеры3 позвали меня к своему столу, хотели, чтобы я поела с ними. Положили на тарелку три здоровенные мясные галушки. Мами тоже угостили, но ей стало нехорошо, она вышла на улицу, и ее стошнило. После недолгих колебаний я съела половину. Другую предложила Яношу, но тот отказался. Мясо, надо сказать, было неплохое. После ужина я поспешила разыскать Мину и сказала ей, что ела те котлеты. Мы так смеялись, что солдаты подозрительно косились на нас: что с нами такое? Янош сердился. Собственно говоря, никогда, ни на секунду у меня не возникало мысли, что среди стольких мужчин кто-то может посмотреть на меня как на женщину, и я ходила среди них без опаски, непринужденно, невзирая на обстановку. Как и Мина, Марианна, Клари.
Мами и Лапочка стали нелюдимыми, психика их расстроилась. Лапочка больше не обращала внимания на собак.
Вообще-то, трудно даже вспомнить, в какой обстановке мы жили. Не было ни минуты покоя, тишины. Народу в доме — как в переполненном трамвае. Спали все кто ночью, кто днем, сидя на полу, прислонившись друг к другу. Спали и мы, но никогда — по-настоящему.
Днем и ночью приходили и уходили все новые солдаты. Отряды тоже сменяли друг друга. Дни слились в какой-то странный, туманный, тяжкий сон.
Вода в колодце иссякла. Еду готовили на талом снеге. Сначала давали пить лошадям и только потом пили сами. Конечно, все это вместе с ними терпели и мы. Уже давно мы не мылись. Негде было, не было ни воды, ни подходящего случая. Ели мы то же, что и они. Мы все время были в полусне, даже когда спали. Часто вспыхивали ссоры, иногда слышались крики, брань.
Приходили все новые и новые солдаты. Были среди них и погрубее. День за днем мы ждали, что они уйдут и мы избавимся от них. Однажды дом неожиданно опустел. Я сделала уборку, мы разместились. Тогда пришли румынские солдаты. Когда я заговорила с ними по-румынски, они со слезами бросались мне на шею, целовали руки. Они умоляли, чтобы им дали поесть. И сейчас душа болит оттого, что я дала им только хлебных корок. Но и за них они благодарили со слезами. Провизия у нас была на исходе, а припрятанное я доставать боялась.
В лесу, у скал мы еще в начале нашего пребывания здесь закопали бидон жира. Это был неприкосновенный запас.
Позже я не раз собиралась вернуться туда, отыскать его — в голодные военные, а потом и мирные дни.
Мы с неизъяснимой силой жаждали мира. (Русские — нет, им нужен был Берлин. Они были победителями и наслаждались войной.)
Меня учили русскому языку — способом невероятно простым. Однажды утром, когда я выглянула в окно, мне сказали: “Зима”. Я смотрела, не понимая, тогда один из солдат взял меня за руку, вывел на улицу, сунул мне за шиворот большущий комок снега и сказал: “Зима! Разуме?” Я поняла и с тех пор знаю, что это означает холод. Или снег? Неважно: “зима” для меня — это холодный снег за шиворотом.
Однажды они принесли какого-то пойла, разлили его по стаканам и сказали, что это надо выпить за здоровье Сталина; кто не выпьет до дна, тот враг. Не знаю, как я все это поняла. Думаю, я очень быстро усваивала русский. К тому же они знали несколько слов по-румынски.
Мы встали в круг, помню, я поднесла стакан ко рту и почувствовала, что в нем палинка. Я хотела поставить стакан, но они заорали; пришлось выпить до дна. От стакана крепкой палинки я уж точно должна была опьянеть. Янош обнял меня, отвел в уголок, усадил, и там, сидя сгорбившись, на корточках, я скоро заснула. Когда проснулась, я уже более или менее протрезвела. Меня не обижали. Я даже представить не могла, что меня могут обидеть.
Еще в Будапеште я видела плакаты, на которых советский солдат срывает крест с шеи женщины. Я слышала, они насилуют женщин. Читала и листовки, в которых говорилось, что творят русские. Всему этому я не верила, думала, это немецкая пропаганда. Я была убеждена: невозможно представить, чтобы они валили женщин на землю, ломали им позвоночник и тому подобное. Потом я узнала, как они ломают позвоночник: это проще простого и получается не нарочно.
Однажды кто-то из солдат отнял у югославского священника часы. Это были старинные, большие часы с римскими цифрами на циферблате, которые тот очень любил. Он пожаловался мне. Кажется, он говорил по-немецки, я его поняла.
Я ужасно разозлилась, пошла к русским, попросила его показать солдата, взявшего часы, встала перед ним и, обругав, потребовала часы назад. Там стояли другие солдаты, они смотрели и слушали, но во время всей этой сцены не промолвили ни слова.
Собственно говоря, общаться с русскими нетрудно. Кричать можно и по-венгерски. Часы священнику вернули.
Господи Боже, какая же я тогда была наивная! Я не знала, что их надо бояться.
Я еще и объясняла, что мы — дипломатический корпус, что мы экстерриториальны и неприкосновенны. Они поняли это буквально, обступили меня, смеялись, давали пощечины, пару раз стукнули (не очень сильно). “Видишь: какая же ты неприкосновенная?” В другой раз предложили встать на “экс-территорию”. И с любопытством ждали, как у меня это получится.
Это не было шуткой. Они думали, что неприкосновенность — это нечто вроде благодати божьей, то есть, например, если тебя кто-то хочет ударить, рука его застывает в воздухе. А может, и не думали. За редким исключением они были атеистами и, к моему изрядному удивлению, антисемитами. Когда Фёрштнера обозвали жидом, я возмущенно на них прикрикнула, и они тут же унялись.
В отряде была и женщина, звали ее Надя. Однажды вечером она взяла меня за руку, отвела на кухню, мы как-то заперли дверь — наверное, завязали бечевкой. Она что-то крикнула по-русски в коридор, думаю, что-то вроде “оставьте меня в покое”, согрела воды, помыла голову, вымылась сама, выстирала лифчик и трусы и так, мокрыми, надела их. Сначала, раздеваясь, она попросила меня разрезать веревочку, которой был завязан на спине ее лифчик, иначе она не могла его снять. Потом — потереть ей спину. Наконец, надевая мокрый лифчик, чтобы я снова завязала его веревочкой. “Посильнее!” — подбадривала она меня, просила затянуть покрепче. Я опешила. Потом поняла, что она неделями будет сражаться вот так, натуго и жестко перетянутая, иначе не сможет двигаться, скакать верхом наравне с мужчинами: ведь она была кавалеристка и носила мужскую одежду.
Я не понимала, почему эту единственную женщину определили к мужчинам. Никогда не видела, чтобы с ней заигрывали или обнимали ее. Был с ними и мальчик или молоденький парнишка, которого вполне можно было еще назвать мальчиком, и он тоже был солдатом и сражался бок о бок с ними. С ним часто играли, шутили. Паренек был очень славный, иногда он играл и со мной, как самый обыкновенный ребенок.
Потом прибыл еще один отряд. Эти ели сырое мясо. Мясо было мороженое — просто сырая, свежая свинина, замерзшая оттого, что лежала на морозе, в мешке, притороченном к седлу. Я не знаю, кто они были, говорили они не по-русски. Они угощали нас мясом, мы ели его с солью, и оно было вполне съедобное.
В нашей комнате висел вмонтированный в стену старомодный деревянный телефон, соединявший домики лесников с центральной конторой лесничества и друг с другом; он давно уже не работал. Я слышала, как один русский говорит другому: “Не робота”. И когда однажды солдат из вновь прибывшего отряда поднял трубку, я сказала: “Не робота”. Тогда меня окружили, схватили, хотели надавать пощечин. Думали, что я шпионка. Если я знаю по-русски, почему тогда делаю вид, что не знаю, а если не знаю, то откуда знаю эти слова? Вот так мы и жили.
В одно прекрасное утро нас всех собрали, дали телегу, в которую можно было сложить часть вещей, Мами тоже разрешили сесть в нее, но она отказалась: хотела идти с нами. Остальных, то есть нас, погнали с горы пешком, дав в руки какую-то бумажку. На листочке величиной с ладонь, вырванном из тетради в клетку, было что-то написано русскими буквами, что — мы не смогли разобрать. Нас сопровождал русский солдат, верхом, естественно, а мы шли пешком. Когда мы спустились в Пустакёханяш, нас присоединили к группе побольше; впереди ехали двое солдат верхом, за ними — толпа мужчин и женщин, сзади — снова верховые. Так мы шли и шли, куда — не знаю, а потом к нам присоединился еще отряд.
Затем нас разделили: женщин — отдельно, мужчин — отдельно. Мы с Яношем переглянулись: наверняка гонят в плен. Мы подумали о Сибири, тем более что зима была суровая, снег жесткий, солнце светило и искрилось, сильно подмораживало.
Мы шли. Вернее, плелись толпой, по незнакомой дороге.
От Яноша я была отрезана. Почти никто не разговаривал. Отряд был довольно большой. Тех, кто не мог идти дальше и падал, забивали насмерть или пристреливали. Чаще всего падали старики, женщины, дети, они теряли сознание от усталости; все равно они не смогли бы идти дальше и скоро замерзли бы, даже если бы пуля не покончила с ними. Но эта смерть была верная. Я не знала, что мы движемся сквозь огневой рубеж.
Так мы шли до вечера. Мами уже еле-еле шагала. Мы тащили ее, подхватив под руки с двух сторон, бедняжка едва волочила ноги по земле, слезы лились из ее глаз ручьем.
У меня заболело сердце; это неудачное выражение, но ничего другого я сказать не могу. Потом меня охватила дикая злоба к русским. Такая злоба и гнев, которые я редко ощущаю в жизни: в эти минуты меня переполняет такая отвага, что я ничего не боюсь.
Я выскочила из строя; не знаю, почему меня не пристрелили. Побежала вперед и схватила под уздцы лошадь солдата, ехавшего в голове колонны. Лошадей я тогда уже не боялась: они гораздо добрее, чем люди. Лошадь резко остановилась и поднялась на дыбы, когда я встала перед ней как вкопанная. А солдат занес плетку и ударил меня или хотел ударить, уже не помню, это не так важно.
Помню только, что кричала по-русски: “Стой!”, а по-венгерски: “Звери! Вы что, не видите — женщины и дети не могут идти? Остановитесь!” И мы остановились! Солдаты и вся колонна — все рухнули на землю там, где стояли; люди смогли наконец передохнуть, помочиться. Не знаю, сколько мы простояли; через некоторое время мы поднялись и двинулись дальше.
Что было после — не знаю: от усталости и холода мне отшибло память.
Потом вижу себя в каком-то домике, чистом, приветливом; там всего одна комната, в печке ярко горит огонь. Может быть, это охотничий домик или караульное помещение. Там, к моему удивлению, сидел мужчина в форме немецкого офицера; нога у него была то ли в гипсе, то ли забинтована; он разговаривал со стоящим рядом русским офицером, видимо, большим чином. Я показала ему записку и попыталась объяснить, что мы — “дипломатический корпус”, а потом потребовала по-русски, по-венгерски, по-румынски и по-немецки, чтобы нас отпустили: это незаконно, бесчеловечно.
Офицер внимательно смотрел на меня, затем вызвал солдата (не помню уже откуда) и приказал, чтобы нас отделили и отпустили на свободу. Всех нас: пленных французов, югославского священника, представителя папского посольства с матерью, Клари, девочку, Мину с матерью, Яноша, Мами и меня — отпустили на все четыре стороны.
Перед этим нам вернули ту бумагу и дали каждому по ломтю хлеба — полбуханки на всех. Мы были голодны с самого утра, не помню даже, ели ли мы утром. Свой ломоть хлеба я положила в карман пальто: съем позже, когда голод совсем одолеет, или отдам кому-нибудь, кто выбьется из сил. Так мы и отправились в дорогу, зная — нас как-то предупредили, — что находимся на передовой.
Мы шли вслепую. Янош считал, что мы недалеко от Чаквара, он знал туда дорогу. Сначала нужно было пройти через лес, и самым странным здесь было — уже темнело, — что я все время видела летящие мимо пули. Да, именно видела: они были цветные, светились зеленым светом. “Сигнальные ракеты”, — сказал Янош. Годы спустя, на рассвете 4 ноября 1956 года, увидев в окно цветные залпы, Миклош сказал: “Начинается советское наступление, это сигнальные ракеты”. И наступление началось.
Ночью мы добрались до околицы Чаквара. Там был выставлен патруль: русский солдат расхаживал взад-вперед.
Наши собаки опять были с нами. Три из них, те, кто выжил, преданно за нами следовали. Пока мы шли в колонне, они бежали лесом, держась вдалеке, чтобы солдаты не заметили их и не пристрелили. Они были очень смышленые: все-таки охотничьи собаки. В этом им повезло, да и нам тоже. Ведь из-за собак мы могли поплатиться жизнью.
Из последних сил мы пробрались по сугробам через лес, сквозь кустарник, и вышли на тропу, ведущую к деревне. Мы смертельно устали, но Янош не разрешил делать остановку — боялся, что мы не сможем больше подняться: ведь мы были на ногах с утра.
Зимой рано темнеет, но нам казалось, ночь тянется целую вечность. К тому же ночь была лунная, светло было и от снега. Мы притаились на опушке, потом легли на снег; можно было точно рассчитать, когда часовой уйдет дальше всего. Вот он доходит до места, где лежим мы; поворачивается, идет обратно; вот повернулся к нам спиной! Пока он смотрит в другую сторону, можно переползти через дорогу; на той стороне — похожая на ров ложбина, по ней и нужно двигаться дальше. Когда он повернется — это нужно было рассчитать, — надо, лежа на животе, затаиться в ложбине. Пройдет, опять повернется спиной — можно ползти дальше, потом опять затаиться. Эта игра терзала нервы. Янош знал, как нужно двигаться, сам он пять раз прополз по этой дороге. Он и подавал нам сигнал: лечь — остановиться — двигаться вперед. Стоит кому-то сделать неверное движение — и всем нам конец. Он знал наверняка, что на передовой стреляют без разговоров. Да если бы нас и стали спрашивать, что бы мы сказали?
Так вот почему русские выгнали нас из дому, вот почему должны были умереть те, кто падал и отставал от колонны. А почему тогда нас отпустили?
Понятия не имею. Хотя у нас была бумага, что мы — дипломатический корпус и так далее, но ведь в конце концов нас отправили под огонь: тогда, ночью, никто не стал бы проверять у нас документы.
Последними остались Янош, Мами, я и собаки. Янош перетащил Мами. Очередь была за мной и за собаками. Из-за них он очень сердился. Ругался еле слышно, но крепко, шепча: “Какой же я дурак: собак надо было пристрелить, к дереву привязать. Надо их убить!”
Я не хотела убивать собак. Жить, правда, тоже не очень хотелось. Зато очень хотелось, чтобы в живых остались другие, особенно Янош и Мами. Я молчала, и мы поползли. Он — впереди, я — за ним, бок о бок со мной — Филике. Филике был такой худенький, что умещался в канаве рядом со мной. Сзади — две другие собаки. Они уж наверняка точнее выполняли указания Яноша, чем я или кто-либо другой. Когда он давал знак “лежать тихо”, они не шевелились. Когда мы ползли по-пластунски, они делали то же самое. Если мы лежали неподвижно, они тоже не двигались. Безмолвно, без единого звука.
Господи! Какими же умными, послушными, верными были эти собаки! Гораздо легче было ползти вместе со мной и с собаками, чем с остальными, говорил потом Янош.
В конце канавы был сарайчик, что-то вроде давильни, без подвала. Дверь была взломана. Мы забрались туда бесшумно, по очереди, все так же по-пластунски, после этого Янош приладил дверь на место, чем-то подпер ее. Внутри — два топчана, голые доски. Мы улеглись на полу и на топчанах. Заснули от усталости. Мы не мерзли: в тесной комнатушке нас было много.
На рассвете кто-то стал дубасить в дверь. Ну, теперь мы пропали! Собаки залаяли, Янош бросился к двери.
Это были русские солдаты, с ними мужчина, венгр. Мужчина узнал Яноша, сказал что-то русским. Наверное, “местный”, “здесь живет”, “невиновен”, или бог его знает, что еще. Нас не тронули.
Утром я хотела было достать свой хлеб, но в кармане были лишь крошки: хлеб искрошился.
Потом из этой лачуги, полуживые от страха, мы отправились к деревне, к Чаквару. Добрались туда к полудню. Как и прежде, искрящийся солнечный свет, суровая, холодная зима, сверкающий снег.
Помню, старушка, мать Фёрштнера — я забыла уже, как ее звали, — настолько приободрилась, что пожелала пойти в парикмахерскую. “Сделаем прическу, а потом и обед велим подать”, — сказала она. Слегка раздраженно я заметила, что мы в зоне боевых действий, на фронте. Она посмотрела на меня удивленно: “Но парикмахерская-то должна работать”. — “Да ведь в Чакваре все равно нет парикмахерской!” — ответила я.
Не знаю, как попали мы в дом приходского священника: это уже спуталось в моей памяти. Главное, мы были там, нас туда направили4, и — чудо из чудес! — на телеге прибыли из лесничества все наши вещи. Хотите верьте, хотите нет, но абсолютно ничего не пропало. Для меня навсегда останется тайной эта неорганизованная организованность русских. Как и их поведение: никогда ничего нельзя предвидеть, рассчитать заранее. Может случиться все что угодно, но в то же время и прямо противоположное.
Была там и Лапочка, в дорожной корзинке. Но прошло так много времени, чуть ли не двое суток. Мы выпустили Лапочку, она тут же села и стала мочиться, все никак остановиться не могла. Чистоплотная, как все кошки, она эти полтора-два дня терпела, не пачкала свою корзинку. (Одна из основных проблем на войне: надо облегчаться, но вот когда и где? Как ни странно, даже если не ешь сутками. Впоследствии то же самое я видела у лежащих без сознания умирающих.)
Мы разместились в доме. Кроме нас, там жили приходской священник (по совместительству — декан) и капеллан. Это была довольно большая резиденция: постройка в форме буквы “L”, в конце — кухня. Французы-военнопленные опять поселились в кухне и занялись стряпней. Со стороны двора вдоль всего дома тянулась застекленная веранда. Со стороны площади — окна, выходившие на палисадник.
У ворот стоял часовой, советский солдат, и никого не впускал. Иногда деревню обстреливали, но в общем мы жили относительно мирно. Кроме священников. Эти вели себя отвратительно! Помню, священник из Югославии лежал в постели в комнате капеллана. Он был старый, больной и глухой. Однажды я взяла что-то из шкафа у капеллана, кажется, стакан, чтобы дать ему попить, и не поставила на место. За это капеллан сурово и резко отчитал меня, как будто я этот стакан хотела украсть. Не знаю, что было дальше, но прекрасно помню, что мне очень хотелось дать ему по физиономии. До этого я в жизни не ударила ни животное, ни человека. Я сказала капеллану: “Послушайте, Ваше преподобие: я еще никому не давала пощечин, но сейчас, не будь вы священником, я бы вам наверняка влепила”.
Декан заставлял нас выбивать персидский ковер, припрятывал свое добро, но даже картофелиной с нами не поделился, а ведь картошка занимала половину его подвала — вместительного прямоугольного сводчатого помещения, мешки были сложены штабелем высотой в три-четыре метра. Потом, во время боев, она рассыпалась и покрыла все помещение метровым слоем. А Чаквар между тем обстреливали. “Скажите, господин декан, вы не боитесь Бога?” — спросила я у него. Он поглядел на меня и сказал: сразу видно, что я реформатской веры, если так дерзко разговариваю со священником. (Он был высокого роста, с маленьким выпуклым брюшком, всегда в черной сутане, на голове — серая шляпа. А капеллан был тощий, как сушеный лещ.)
Как-то вечером мужчины играли в карты в подвале, там же приютились женщины, а мы с Яношем остались наверху. Янош собрался отнести в починку свои сапоги, он был в домашних тапочках и пиджаке. Мы сидели у кровати югославского священника на полу, на матрасе, рядом — наши собаки. Янош поднялся и стал прохаживаться по тесной комнатке. До нас доносились мощные раскаты орудий. “Gott sei Dank, heute ist ganz Ruhe”5, — промолвил югославский священник. Такой слабый был у него слух. Мы с Яношем как раз потешались над этим, снова усевшись на корточки у изножья кровати, чтобы защититься от осколков в случае попадания, когда дверь резко распахнулась. Ввалились русские солдаты. Один схватил за руку и рывком поднял с пола меня, другой — Яноша. Собаки отчаянно лаяли, солдаты орали. Яноша схватили. Так и увели его: в шлепанцах, с непокрытой головой, без пальто. Я побежала следом. В углу коридора они столкнулись с остальными мужчинами, поднимавшимися из подвала. Всех их забрали.
Мне бросили какую-то фразу, из которой я поняла: “Потом, утром”. Это было ужасно. Невозможно, просто невозможно описать, что я чувствовала.
В подвале я сказала Мами и остальным женщинам: наверху тихо, но в любую минуту может начаться стрельба, пусть они остаются в подвале и ночуют там. Мы с мужчинами будем охранять дом.
Поднявшись наверх, я положила на голову подушку, прижала ее к ушам, чтобы заглушить грохот, прислонилась лбом к оконному стеклу и стала смотреть в лунную ночь. Так я дожидалась утра.
Каждым своим нервом я чувствовала, что сейчас Яноша оторвали от меня, увели, и Бог весть, что с ним будет. А может, я уже предчувствовала, что нас ожидает.
Я думала, это самая глубокая ночь в моей жизни.
Утром женщины поднялись из подвала. Плач, упреки: почему я не сказала сразу, что случилось. “А что вы могли бы сделать? — отвечала я. — Ведь до утра — комендантский час, кто осмелился бы выйти из дому ночью? Да и куда, зачем?”
Потом я пошла одна. Повязала голову платком и отправилась в комендатуру. Там сидела целая толпа народу, все ждали своей очереди. Среди них была девочка с окровавленной головой, одна прядь волос вырвана. Вид у нее был жалкий, подавленный. “Из-под русских ее вытащили”, — сказала ее мать. Я не поняла, спросила: “Из-под машины?” Женщина разозлилась: “Вы что, ненормальная? Не знаете, что они делают с женщинами?”
Я слушала, о чем говорят вокруг. Кому из женщин сломали позвоночник, кто потерял сознание, у кого не могут остановить кровь, кого из мужчин застрелили за то, что он пытался заступиться за жену.
Внезапно мне открылся весь кошмар, окружавший нас. Вдруг стало ясно, что в доме священника, под охраной советского солдата, видя лишь нескольких солдат, время от времени добродушно заглядывающих к нам, мародерствующих, поедающих наш хлеб, но не осмеливающихся на большее, мы ничего не знали о том, что происходит снаружи. Может, Янош знал, только не говорил?
Он, наверное, подозревал что-то. Венгерские солдаты вели себя в русских деревнях не намного порядочнее.
Что сказал командир, я уже не помню.
Позже, когда выпустили декана, я узнала, что обвиняют нас в том, что мы шпионы, потому что точь-в-точь после боя часов на колокольне бомба попала прямо в русский штаб и погибло много народу. Они думали, мы подавали сигналы из церкви.
Им невозможно было объяснить, что башенные часы бьют регулярно, потому что заведены, это простое совпадение. Вообще русским очень многое нельзя было растолковать. Они жили в другом мире, у них был совсем другой опыт. Логика их тоже была иной. Они не знали, что такое башенные часы. Часы вообще — да, их они искали везде и всюду. Думаю, после ухода советских войск во всей Венгрии почти не осталось часов.
Священник был крайне возмущен, что с ним обошлись непочтительно, били по голове, отобрали шляпу, накричали. Сказал, что остальных увезли и, скорее всего, расстреляют.
На второй или третий день после этого из соседней деревни пришли незнакомые люди и сказали: всех мужчин казнили; заставили выкопать длинную яму, поставили на край и расстреляли в затылок. Трое местных жителей закапывали яму. (Так обычно и делается: могилу копаешь себе сам — почти на всех войнах.)
“Неправда, — сказала я Мами, — я знаю, что это неправда”. Я ужасно боялась, дрожала, но душой чувствовала, что это неправда, или хотела в это поверить. Не знаю точно, как это было, помню только, что повторяла про себя: неправда, неправда, неправда.
После того, как увели мужчин, стало ясно, что в деревне что-то неладно, часовой у дома исчез. (Я просила женщин на ночь собраться в одной комнате, так безопаснее. Но они отказались: кое-кто из них намеревался принести из подвала свои пожитки и держать при себе, а тогда места на всех не хватило бы.)
У меня был ящичек из тонкой жести, снаружи обклеенный цветной бумагой, наподобие современных коробочек из-под чая. В нем лежали старинные золотые украшения, которые я получила на свадьбу от тети и родителей, — прекрасная работа трансильванских ювелиров, вековой или полуторавековой давности. Тяжелые золотые вещи, пара драгоценных камней и прочее, а сверху три чайные чашки и блюдца китайского фарфора, полученные от Яноша, — он привез или прислал их с русского фронта. Фарфор был завернут во что-то мягкое, вроде соломы, и стоял на самом верху.
Через пару дней после исчезновения мужчин мы собрали свои пожитки и стали их прятать… Серебро опускали в колодец, более или менее дорогую одежду закапывали в навозную кучу, драгоценности запрятывали в кровати, да мало ли еще куда. Свой ящичек я задвинула под кровать югославского священника, которого часто навещала, кормила, ухаживала за ним.
Так как женщины не хотели оставаться в одной комнате, мы разошлись по дому. Уже смеркалось. Я сидела с Мами в нашей комнате, мне было страшно. Тишина, в камине горел огонь, как раз в этот момент не стреляли.
Вошли трое русских и сказали по-румынски, чтобы я шла с ними. Я точно поняла, чего им надо, не знаю как, но поняла.
Мами я сказала, что меня ведут в больницу — помогать ухаживать за ранеными. Мами посмотрела на меня, проговорила умоляюще: “Не ходи, деточка, не ходи! Не ходи с ними, они сделают тебе плохо”. Я сказала им, что меня не отпускает мать (не хотелось говорить: “свекровь”). Тогда они показали на угол обитой железом печной заслонки: если я не пойду, они расшибут Мами голову. (Закрыв глаза, я до сих пор вижу эту печную заслонку.) Это они сказали по-румынски. А я — Мами, по-венгерски: раненых много, надо идти.
Я надела сапоги, повязала платок, потом развязала и снова завязала, развязывала и завязывала, чтобы выиграть время. Пока стояла, слышала, как что-то стучит об пол: это был мой собственный каблук, так я дрожала.
Тогда я обняла, расцеловала Мами, сказала ей: пробуду там до тех пор, пока нужна помощь. Мами посмотрела на меня и расплакалась.
Мы вышли в L-образный коридор. (Когда русские увели наших мужчин, они тоже встретили их на сгибе буквы “L”.) Когда мы дошли до середины коридора, я, не говоря ни слова, яростно набросилась на них. Я пинала, колотила их изо всех сил, но в следующую минуту очутилась на полу. Никто не произнес ни звука — ни они, ни я; мы боролись молча. Меня оттащили в кухню и там так хватили об пол, — видимо, я опять хотела защищаться или нападать, — что голова моя ударилась об угол мусорного ящика. Он был из твердого дерева, как и полагается в жилище декана. Я потеряла сознание.
Очнулась я в большой внутренней комнате декана. Стекла были выбиты, окна заколочены, на кровати не было ничего, кроме голых досок. Там я лежала. На мне был один из русских. Я услышала, как с потолка громом ударил женский крик: мама, мамочка! Потом до меня дошло, что это мой голос и кричу я сама.
Как только я это поняла, я перестала кричать и лежала тихо, неподвижно. Я пришла в сознание, но не чувствовала своего тела, как будто оно затекло или замерзло. Да мне, наверно, в самом деле было холодно — голой ниже пояса, в нетопленой комнате без окон. Не знаю, сколько русских насиловали меня после этого, не знаю, сколько их было до этого. Когда рассвело, они меня оставили. Я поднялась. Двигаться было трудно. У меня болела голова и все тело. Сильно текла кровь. Я не чувствовала, что меня изнасиловали; ощущала только, что избита, искалечена. Это не имело никакого отношения ни к ласкам, ни к сексу. Это вообще ни на что не было похоже. Просто сейчас, когда пишу эти строки, я понимаю, что слово точное — на-силие. Вот чем это было.
Не помню, тогда или в другой раз, но они увели с собой всех. Даже Мами. Я еще могла это вынести, ведь я была уже замужняя женщина, но Мина — она была девственницей. Проходя по дому, я набрела на нее, услышав плач; она лежала на цементном полу в какой-то каморке. Я вошла к ней. “Налево лучше не выходить, — сказала она, — там еще русские есть, они опять на нас накинутся”.
Мы хотели вылезти в коридор через окно, чтобы попасть обратно к Мами. Я пролезла, Мина за мной, но она была полнее меня и застряла. Я залезла обратно через другую створку узкого трехстворчатого окна и стала проталкивать ее сзади. С ней так грубо обошлись, что даже ноги ее были в ссадинах. Когда я толкала ее голую задницу — она и застряла в проеме, — мы даже смеялись. Не знаю почему, но удержаться было невозможно. Снаружи мы кое-как собрались с силами и прокрались к Мами. Тогда ее забрали или в другой раз? Сейчас в голове у меня все перемешалось: ночи, дни, что когда происходило, какие войска и когда захватывали деревню, русские это были или немцы, когда нас обстреливали, когда было тихо. Сегодня уже ничего нельзя утверждать наверняка. Тогда тоже.
Когда меня увели в первый раз — об этом я узнала позже, — Мами с криком и рыданиями отреклась от Бога, прокляла его. С того дня она порвала с религией. Лишь много позже я заметила, что она не ходит в церковь. Молилась ли она еще когда-нибудь — не знаю.
(Теперь я понимаю, почему в Израиле — прошлым летом — встречала столько атеистов.)
И к гинекологу мне так и не удалось ее отвести, а ведь ее заразили, заразили нас всех. Разве узнаешь, когда и кто?
Другой раз ночью к нам ворвался целый отряд, тогда нас повалили на пол, было темно и холодно, вокруг стреляли. В памяти осталась картина: вокруг меня сидят на корточках восемь—десять русских солдат, и каждый по очереди ложится на меня. Они установили норму — сколько минут на каждого. Смотрели на наручные часы, то и дело зажигали спички, у одного даже была зажигалка — следили за временем. Поторапливали друг друга. Один спросил: “Добре робота?”
Я лежала, не двигаясь. Думала, не выживу. Конечно, от этого не умирают. Если только не ломается позвоночник, но и тогда умираешь не сразу.
Сколько прошло времени и сколько их было — не знаю. К рассвету я поняла, как происходит перелом позвоночника. Они делают так: женщину кладут на спину, закидывают ей ноги к плечам, и мужчина входит сверху, стоя на коленях. Если налегать слишком сильно, позвоночник женщины треснет. Получается это не нарочно: просто в угаре насилия никто себя не сдерживает. Позвоночник, скрученный улиткой, все время сдавливают, раскачивают в одной точке и не замечают, когда он ломается. Я тоже думала, что они убьют меня, что я умру в их руках. Позвоночник мне повредили, но не сломали. Так как в этом положении все время трешься спиной о пол, кожа со спины у меня была содрана, рубашка и платье прилипли к ссадине — она кровоточила, но я обратила на это внимание лишь потом. А тогда не замечала этого — так болело все тело.
(Мы с Миной не раз задумывались, сколько же минут, сколько солдат пришлось на ту ночь. Ее тоже насиловали — в другой комнате. И почему все время на полу?)
Деревня была под огнем, вокруг непрестанно громыхало, трещало.
Однажды пришел какой-то офицер, он пожалел меня, посадил к себе на колени, укрыл шинелью, баюкал. Я ждала, когда он меня изнасилует; или, может, он уже успел меня изнасиловать и взял на руки или вырвал меня у кого-то из рук? Но точно помню: он ощупывал мою руку и смотрел, есть ли на пальцах кольцо. Зажег спичку и смотрел. Тогда я сняла свой перстень и отдала ему.
Папа когда-то носил его на мизинце — зеленый камушек в форме подковы, окруженный жемчужинами. Перстень был женский, потому он и носил его на мизинце. Почему папе нравилось носить на мизинце женский перстень?
Я не любила колец; почему оно очутилось тогда у меня на руке? Он, смеясь, надел его обратно, полез в карман, достал оттуда другие кольца, стал примерять их мне на палец, но я только улыбнулась и отдала их назад. Может, кольца были не моего размера, уже не помню, но только я не хотела их принять. Тогда он выпустил меня из объятий и собрался уходить.
Я в отчаянии бросилась за ним, схватила за край шинели, не отпускала. Он что-то объяснял, я не понимала. Он вышел, а я, крадучись, пошла следом, потому что чувствовала, что должна пойти за ним. А он подошел к навозной куче, остановился и стал мочиться. Оглянулся, заметил меня и рассмеялся.
Он вернулся ко мне, опять обнял, я сделала ему знак подождать, зашла в уборную, встала на унитаз, ведь садиться на него уже давно было нельзя. То же самое было в Миндсенте, в домике лесника: как только появлялись русские, уборная сразу же оказывалась загаженной до безобразия: они справляли нужду не только в унитаз, но и мимо, рядом, куда угодно. Грязь такая, что на сиденье не то что сесть — встать некуда. В общем, я помочилась стоя и только тогда поняла: бывает, что и пописать забываешь, если боишься или нет времени.
Я подошла к нему, он подождал меня и отвел обратно в дом, долго рассказывал что-то по-русски, но я ничего не понимала. Надел мне на голову свою меховую шапку, чтобы я не мерзла, а когда я стала дрожать, накинул на меня фуфайку. Так мы просидели до утра. Та ночь была лучше, чем другие, хотя я все время боялась, что он оставит меня одну и тогда остальные снова на меня набросятся.
А что было в это время с Мами и остальными женщинами?
Это случилось еще в самом начале. У Мины были длинные волосы, и кто-то из солдат потащил ее за собой, намотав волосы на руку. Мина кричала, звала меня; я подбежала. “Помоги!” — умоляла она. А я тихо сказала: “Иди!” Мина пошла, то есть ее повели.
Может быть, это было еще до того, как взяли меня? Или в ту же ночь? А может, вечером? Впервые — или не в первый раз?
Маленькая Марианна избежала общей участи: на губах у нее появилась пена, глаза выкатились из орбит. Это ее и спасло. Но бабушку ее взяли. Наутро бабушка с гордостью говорила: “Я дисциплинированная”.
Нас это рассмешило.
Я ходила к знакомому чакварскому врачу, он успокоил меня: если идет кровь, значит, заразы можно не опасаться. На самом деле все наоборот, но чем он мог помочь мне? Ничем.
У нас всех шла кровь, а смыть ее мы не могли. Пытались подмываться тайком, в снегу.
Сколько еще ужаса выпало на нашу долю там, в доме приходского священника, даже не помню. Декан куда-то пропал. Наверное, не выдержал, что унесли его персидские ковры и серебряный сервиз и все перевернули вверх дном. Потом исчез капеллан; в доме остались одни мы, женщины, да еще старый югославский священник. И расквартированные русские солдаты.
Иногда русские воровали у нас, иногда мы таскали у них то одно, то другое. Или наоборот: мы воровали, а они таскали у нас то одно, то другое. Вещей становилось все меньше. Мамика сказала мне: “Послушай-ка, вот эту пару ботинок я спасу. Один положу в подвал под картошку, другой спрячу за зеркало”. Но Мами ошиблась. Ботинок, который был за зеркалом, исчез. Напрасно мы вытащили второй из кучи картошки, в одном ботинке ходить все равно нельзя.
Однажды в подвале, куда мы к тому времени переселились (обитали мы на вершине картофельной кучи, которая постоянно уменьшалась, потому что картошку ели русские, да и мы тоже), нас хотели расстрелять, не знаю почему. Всех четверых поставили к стене — Мамику, меня, Мину (кто был четвертый?) — и сказали, что расстреляют. Первая пуля попала в стену рядом со мной, я обернулась и рассмеялась им в лицо. Уже когда нас ставили к стенке, я чувствовала, что это неправда, внутренний голос говорил мне: неправда. Когда первая пуля попала в стену, я знала это наверняка — головой, умом. Не может быть, чтобы русский солдат не попал в цель из автомата, если цель — в трех метрах, у стены. Они так поразились, когда я обернулась и рассмеялась, что сразу опустили оружие. Подошли к нам, хлопали меня по плечу и хохотали: браво, браво! Им понравилось. Что именно? Их шутка, моя смелость и интуиция, их собственная дикость или же вся эта комедия?
Конечно, они нашли все, что мы спрятали: и в колодце, и в навозной куче, и в земле. Тыкали в землю палками и копали там, где мягче, — и находили спрятанное. А мой ящичек стоял под кроватью, я о нем позабыла.
Однажды ночью я выпрыгнула в окно. Не помню, когда это было: в ту ночь, когда загорелся дом, или в другой раз, и не помню, почему убегала от них; но я в самом деле выпрыгнула — босиком, в одном платье. Прямо на снег. Перемахнула через ограду и побежала. Филике — за мной. А они стреляли мне вслед.
Они буквально окружили меня автоматными очередями.
Это было настоящее представление. Ведь из автомата трудно промахнуться — целиться не обязательно, надо просто выпустить очередь в нужном направлении: хоть одна пуля да попадет в цель. Но обстрелять — для этого нужно умение, надо следить, чтобы ни одна пуля не попала в цель. Это даже меня забавляло. Я даже оглянулась на секунду, смеясь. При этом я старалась бежать в ровном темпе, чтобы не попасть под шальную пулю. Следом, не отставая, бежал Филике. Умный, добрый пес! Филике, Филике… Даже сейчас, как вспоминаю его, маленького, палевого, мне становится грустно; до сих пор в глазах каждой таксы я ищу его взгляд. А ведь ему сейчас легче: его нет в живых; может, всем легче, кто погиб…
В общем, Филике бежал точно позади меня, а я старалась бежать в ровном темпе — из-за него тоже, чтобы им не удалось подстрелить его. Почему я хотела, чтобы в меня не попали? Ум был здесь ни при чем. В такие моменты о смерти не думаешь — просто бежишь инстинктивно, слыша свист пуль и норовя от них увернуться.
Я искала, где спрятаться. Никто не хотел пускать меня в дом. Все боялись: я была молодой, девятнадцатилетней женщиной, и они знали, что русские не раз таскали меня к себе. Значит, они снова могут явиться.
Я умоляла пустить меня хотя бы в хлев, позволить приютиться рядом с коровами. Нет, нет. В подвал? Нет. Я обещала, клялась: совру, что проскользнула к ним, когда никого не видела.
Никто и во двор не хотел меня пускать: даже врач, даже те несколько приятелей Яноша, которых я знала.
Я промерзла до костей, пришлось возвращаться домой. Филике был рядом. Я не смела войти, ночная улица казалась более безопасной. Совсем замерзнув, я села на ступеньку у дверей, Филике лег около меня, а я, чтобы согреть его, положила на него ноги, потом, чтобы самой согреться, посадила его к себе на плечи, на шею. Филике много раз защищал меня от холода, не давая замерзнуть. Понимал ли он, что делает?
Потом, в одну из ночей, когда всеобщее безумие достигло предела (к тому же часть дома горела, туда попала бомба), какой-то русский солдат сжалился надо мной, увел оттуда. Я позвала и Мамику, солдат позволил мне взять ее с собой. Мы — русский солдат, .Мамика и я — шли зимней ночью, в комендантский час, через площадь перед церковью. Он привел нас в какой-то подвал. Глубокий спуск с деревянными ступеньками, маленький сводчатый тамбур, за ним — винный погреб, огромный, как зал. Да, вот и он! На полу лежали люди — шестьдесят или семьдесят, тесно сгрудившись, посередине — узкий проход, и одна еще более узкая дорожка справа — там лежали в два ряда. Наверное, им — тем, кто спал, — показалось странным, что нас привел русский солдат. Светила одна-единственная керосинка. Мами дали стул, на нем она и просидела до утра. Я не могла держаться на ногах от усталости, легла под единственный стол в подвале, у входа, только там оставалось немного места. Пол был влажный, в какой-то жиже. Я натянула на голову свое зимнее пальто с капюшоном и уснула, свернувшись в комочек.
Видно, во сне я выпрямилась: утром, когда стали просыпаться, кто-то наступил мне на голову. Зажгли спичку, какой-то мужчина воскликнул, наклонившись ко мне: “Девушка! Молодая девушка!” Стали спрашивать, откуда я. Я ответила: “Из Коложвара”. Они рассмеялись: “Что, прямо оттуда?” Тогда я выбралась из-под стола и сказала, что не оттуда, а из дома священника. Воцарилась мертвая тишина: видно, здесь знали, что там творится, но нас не выгнали. Здесь все были беженцы.
В подвале разыгрывались безобразные сцены. Помню, сельскому старосте из Дюро сказали: “Возвращайтесь к себе в Дюро, вас там ждут с венками, цветами девушки в белых платьях, вы этого заслуживаете”. И тому подобное… Этого я не могла понять. Зато понимала другое: стычки, до рукопашной, за полметра площади пола. За стакан воды.
Нам с Мамикой дали в одном из рядов место, где можно было улечься вдвоем. Кто-то проявил большую порядочность: помог нам снять и притащить в погреб створку дверей из разрушенного дома. Вот только в середине ее торчала железная заклепка. Когда дверь перевернули, там оказалась железная шайба. Мы с Мами долго думали, какую же сторону предпочесть — с заклепкой или с шайбой: на чем удобнее лежать? А с края была тяжелая петля, с другого — замок, четырехугольная коробка — огромный старый примитивный замок с большой ручкой. Почему мы не пытались его снять? У нас не было ничего, кроме ножа. Во всяком случае, нам вдвоем было довольно неудобно лежать на двери: одной — между заклепкой и петлей, другой — между заклепкой и замком. Дверь и так не отличалась мягкостью: все-таки деревянная, да еще на ней были прямоугольные углубления с рамочками по краям. Когда-то это, наверное, была красивая дверь, жаль только, что небольшая, а Мами-то была полная, кругленькая, она едва умещалась на своей половинке.
Чтобы русские не узнали меня, я покрыла голову большим черным платком, запачкала лицо, женщины помогли мне нарисовать углем морщины; придумывали мы и другие хитрости. Филике я держала под пальто, на груди, прикрыв сверху платком. Филике вел себя тихо, не тявкал, дышал еле слышно, и, если у нас с Мами совсем замерзали ноги, мы переглядывались и ночью, в темноте, клали его себе в ноги, и он по очереди нас согревал. Конечно, и мы согревали Филике.
Как мы жили в подвале? Наверху стреляли, стреляли постоянно. То из деревни, то, наоборот, по ней. Но вечером, с шести до десяти минут седьмого, огонь всегда стихал. До сих пор не понимаю почему, да и другое не понимаю: откуда мы знали, что сейчас будет затишье? Но тогда мы все выбегали на улицу: женщины, дети, мужчины — и каждый спускал штаны и справлял нужду.
Бывали такие сцены: “Эй, ты что, скотина, не видишь, что мочишься мне на ногу?” А одна женщина вернулась плача, ее сапоги с высокими голенищами были расстегнуты, голенище оттопырилось. “Смотрите, — сказала она, — я себе в сапог наделала”.
Мне было трудно вдвойне: Филике надо было держать, чтобы его не увидели, а ему тоже надо было пописать. Поэтому я отбегала подальше и пряталась за свинарником. Мы справляли нужду одновременно, дрожа от страха, но боялись не стрельбы, а людей. Иногда я поднималась на улицу и во время обстрела, чтобы Филике мог пописать, тогда и я делала свои дела.
Это было непросто, но, по крайней мере, я не была свидетелем унизительных сцен. Скопище голых задниц, все мочатся, испражняются, толкаются: “Оставьте меня, вы что, не видите…” Лучше было одной, с Филике, под обстрелом.
Я боялась, чтобы кто-нибудь не заметил, что Филике со мной: в убежище запрещено было приводить собак. Почему? Из-за стрельбы они могут взбеситься, броситься на людей? А может, из-за инфекции? Но какой еще инфекции нужно было тогда бояться?
В подвале стояло ведро с водой, рядом кружка, все зачерпывали и пили из нее. Я думала, что она темного цвета: темно-синяя или темно-серая. Потом, много позже, при дневном свете я увидела, что когда-то кружка была белая, а серой стала от грязи.
У некоторых из нас была с собой провизия, другие поднимались наверх, когда огонь на время прекращался, и где-то добывали себе еду. У нас не было ничего. Помню, каждое утро я находила у своего изголовья маленький сверточек. Там бывало несколько шкварок, иногда — пара пышек, иногда — кусок хлеба или колбасы, кусочек сала. Во всяком случае, нам с Мами этого было достаточно, чтобы продержаться. То есть мы, конечно, голодали, но с голоду не умирали.
Мами неудержимо худела, не съедая даже того, что я находила в сверточках. Я подошла к врачу, знакомому Яноша, спросила его, что делать. Он посоветовал давать ей больше жидкости, иначе она погибнет. Жидкости? Но какой? Ведь даже воды нам доставалось не больше кружки в день.
Я пошла к русским и попросила у них кувшин молока.
Цену я знала: за крынку молока пришлось расплачиваться своим телом.
Потом я пошла в дом священника, наше последнее жилище: хотела принести оттуда матрас, потому что дверь была тяжелая и понемногу отсырела. Здоровье Мами все ухудшалось. За матрас тоже надо было расплатиться натурой. Офицер согласился: если я с ним лягу, могу забрать матрас (который нам же и принадлежал). Со мной был и Филике, все произошло в том самом подвале с картошкой.
Немного картошки еще оставалось на полу, и я лежала на ней, не шевелясь. Пожалуйста!
Русский офицер тем временем зажег спичку, сначала потрогал пальцем мои глаза — открыты ли. Убедившись в этом, приступил к делу. Было немного больно. Но так как я все равно не пошевелилась, не вскрикнула, он зажег еще одну спичку — посмотреть, жива ли я. Покачал головой.
Большого удовлетворения я, должно быть, ему не доставила. Но когда я начала собираться, чтобы унести матрас, он прислал в подвал своего ординарца, который тоже мной попользовался. Филике бегал вокруг, плакал, скулил, лизал мне руки; руки и ноги мои были холодные, язык у Филике — теплый.
Тогда я не подумала, почему он прислал и ординарца. Сейчас мне кажется, что они демократичнее, чем наши офицеры. Или венгерский офицер тоже поделился бы мной со своим ординарцем?
Потом этот молодой солдатик помог мне взвалить матрас на спину. Матрас этот мне был действительно нужен срочно, потому что у Мами начался кашель, насморк. Я несла его, счастливая. Все остальное было уже не в счет. Матрас сложили вдвое и взвалили мне на спину, и я шла, согнувшись пополам, а Филике — со мной.
По дороге мы попали под воздушный налет, я спряталась в придорожную канаву; матрас прикрывал спину и голову, и я чувствовала себя в безопасности. По дороге двигалась советская транспортная колонна, самолеты пикировали на нее, обстреливали. К моему удивлению, этот транспорт действовал так же, как когда-то немецкий: все машины замедлили ход. Ужасно, когда колонна машин приостанавливается и еле-еле ползет под огнем, ужасно, когда над ней пикируют самолеты и на землю обрушивается их вибрирующий гром; а солдаты высовывались из машин, поднимали автоматы и пытались попасть в самолеты. Увидев меня с матрасом на плечах, они разразились бурными приветствиями, кричали, посылали воздушные поцелуи, смеялись, аплодировали: браво, браво! (Они знали это слово и часто употребляли его.)
Думаю, их развеселило как раз то, чего я не знала: матрас абсолютно ни от чего не защищает. Ни от снаряда, ни от осколка, не говоря уже о взрывной волне или бомбе.
Однажды, много позже, я снова шла с Филике по улице. Я хотела умереть, потому что сил больше не было, и тогда снова появились самолеты, бомбардировщики, они бомбили пустое шоссе, идя прямо над ним, — может, хотели сровнять его с землей? — а я шла по самой середине дороги и не хотела прятаться в укрытие. Пусть в меня попадут. “Господи, пусть меня убьет, прямо сейчас!” — молилась я. И все же, когда самолет оказался над моей головой, его ужасный, оглушающий грохот придавил меня к земле, я присела на корточки, но продолжала как-то ползти вперед. Я не упала на землю, не пыталась укрыться, я искала смерти; но идти, выпрямившись в полный рост, не могла. А Филике безмолвно, преданно шел рядом. Когда я передвигалась на корточках, он пытливо глядел на меня и в точности повторял темп моей странной походки. (Филике, есть ли на свете человек, чья верность сравнилась бы с твоей? А я тебя покинула.)
Вы спросите, куда я шла? К Мами. Врач сказал, что ей нельзя больше оставаться в подвале. У Мами был дом, прекрасный деревенский домик с коричневыми потолочными балками, во дворе розы и виноград. Она сдавала его пожилой супружеской чете. Теперь те, уступив моим мольбам, приняли ее к себе, а с ней взяли еще одну старушку. Как я потом узнала, у них был свой расчет: где много старух — там безопаснее, потому что русские любили “бабок” и “мамок”, относились к ним почтительно. Их даже подкармливали, не били, не обижали. А если и случалось иногда, что какую-нибудь старушку насиловали заодно с молодыми, — боже мой, ночью ведь все кошки серы.
Одна из старух была ранена, в ране завелись черви. Она была очень толстая. “Старая падаль”, — сказал хозяин дома.
Я пыталась обрабатывать рану, но не было нужных медикаментов. Я очищала ее борной кислотой, повязку стирала в снегу, а потом оставляла на морозе, чтобы уничтожить бактерии. Тогда я еще не знала, что черви очищают рану, и боролась с ними, причем не могла понять, откуда зимой в человеческом теле черви.
Зачервивевшие раны — это тоже война. Опять нечто, для чего я не могу найти подходящего выражения. Человеческое тело, живое, сырое мясо, в котором — там, где рана воспалена, сочится, гноится, — заводятся извивающиеся червячки; иногда они как будто барахтаются в ране, а иногда застывают на месте (значит, наверняка пируют). Они белые, помельче и покрупнее — и кишмя кишат.
Словом, Мами я устроила, она была здесь в довольно сносных условиях и все просила: “Приходи, доченька, приходи!” Или в другой раз: “Не приходи, стреляют”. Но стреляли или не стреляли, я все равно шла к ней.
Когда мы с ней жили в подвале, где люди ссорились, дергались, нервничали, нам часто говорили: как редко бывает, чтобы мать и дочь так любили друг друга! Мы даже голос никогда не повысим. Я их поправляла: Мами не мать мне, а свекровь. Все удивлялись, не хотели верить.
Мамика была доброй, чистоплотной, кроткой, молчаливой. Мы всегда и во всем приходили к согласию, мне с ней было гораздо легче, чем с моей матерью, вообще с кем угодно. Ни с женщиной, ни с мужчиной, никогда и ни с кем не уживалась я так хорошо, как с Мамикой, а ведь с ней мы прошли через все опасности и беды. Может быть, она была ангелом. Это была сама тишина, кротость и скромность. Только такие истертые слова и дают почувствовать, какой она была.
Я любила ее, она меня тоже. Вот и в тот день, когда я отправилась на поиски Яноша и молилась, чтобы его не казнили и не увезли, она сказала мне: “Не ходи, оставайся здесь, не ходи, с тобой случится беда”. И когда пришли и сообщили, что Яноша казнили, а я крикнула им: “Неправда”, она с улыбкой посмотрела на меня: “Говоришь, неправда? Конечно! Нам нечего бояться!”
Это случилось еще в подвале. Меня там не было — кажется, меня как раз увели на рытье окопов (как-нибудь я расскажу, что такое для женщины рыть окоп в промерзшей земле), — а когда я вернулась в подвал, меня встретили известием о том, что заходил Янош. Он искал меня, звал по имени. Их должны были увезти из деревни, и он попросил у кого-то шляпу. Он был по-прежнему без пальто, в домашних тапочках. В такой мороз и снег. Услышав это, я подумала, сердце у меня разорвется.
Земля разверзлась, и сердце разбилось,
Бездонная пучина сыночка поглотила.
С тех пор я знаю: в языке баллад есть психологический реализм. Потому что именно так и чувствуешь: разрывается сердце, земля раскалывается, и ты проваливаешься в черную бездну.
Однажды, когда все мы в подвале завшивели, я разделась, чтобы собрать вшей из нижнего белья. Женщина сзади меня вскрикнула. Снимая комбинацию, я содрала корочку с раны на спине. Напуганная женщина расспрашивала меня: “Ты что, не знала, что у тебя рана на спине? Не заметила, что пошла кровь?” Подбежали люди, разглядывали рану. (Она была у меня с тех пор, как меня насиловали, закинув ноги к плечам.) Потом рана как-то сама собой затянулась, да и кто тогда стал бы ее лечить?
Позже мы заболели чесоткой. Сельский голова из Дюро поздравлял кого-то: “Сударыня, то, что у вас между пальцами, — это не сыпь, а чесотка, у меня тоже она есть”. К тому времени я уже так хорошо разбиралась во вшах, что знала, где самка, где самец, какая собирается отложить яйца, какая — сытая, а какая — голодная. Когда-нибудь я опишу, что такое вши. Пока, в двух словах, скажу только, что вошь бывает головная, платяная и лобковая. Лобковая вошь живет в волосяном покрове в подмышках и на лобке, платяная — в одежде, а головная — в волосах, на голове, о чем говорит и ее название. Если у вас все три разновидности, сколько ни ищитесь, они все равно будут вас грызть. Нам советовали намазаться керосином. Мы так и сделали. Вши как были, так и остались, а керосин еще беспощаднее разъедал кожу, да и запах от него был отвратительный. О мытье, конечно, и речи быть не могло.
Первое время мы еще говорили о том, что у нас дурной запах изо рта, потому что нельзя почистить зубы. Потом ничего такого уже и в голову не приходило, а запах мы перестали ощущать. Как и то, что не моемся. В подвале — восемьдесят человек. Воды для питья и то не хватало, и через несколько дней у нас пропала потребность в умывании. Зато было ужасно, что при таком кровотечении нельзя было даже переодеться в чистые трусы. На рытье окопов кровь замерзает, ночью опять начинает идти, потом подсыхает, трусы натирают кожу — и все время чувствуешь запах крови. Но ведь кровью пропахло все вокруг нас.
Где-то рядом разорвалась бомба, подвал содрогнулся. Потом — тишина; в гробовом молчании восьмидесяти человек заплакал ребенок. Потом женский голос, странно взметнувшись в вышину, завел ровно и монотонно: “Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с тобою; благословенна Ты в женах и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Богоматерь, Святая Марие, Святая Богородице, молись за нас, грешных, ныне и в наш смертный час. Аминь”.
(Тишина. И сейчас, сорок лет спустя, в голове моей звучит этот голос. Надо открыть окно…)
Я думала, что сойду с ума, хотела закричать, чтобы она прекратила, это невыносимо. Но разве можно вынести тишину? Почему эта молитва произвела на меня такое жуткое впечатление? Раньше я ее не знала. Скорее всего, жутким был сам страх, который я чуяла в голосе. Молитву эту читают и перед смертью. Теперь-то я уже люблю ее.
Когда жизни твоей угрожает смертельная опасность, что лучше: если вокруг тишина или если все кричат, если кто-то читает молитву или если вопят сразу несколько голосов? Не знаю. Но страх ужасен, если страшно многим, и не менее ужасен, если ты один. Немного легче бояться, если рядом Филике, и еще чуть-чуть легче, если рядом с тобой тот, кого ты любишь. Иногда страшнее, если любимый рядом с тобой, потому что ты боишься и за него. Как странно, Филике я любила, но за него не боялась. (Как будто Филике был неуязвим. И он, кажется, никогда не боялся, не скулил, не лаял. Только дрожал иногда, с таксами это часто бывает.)
Однажды, когда я спала, в подвал вошел русский солдат. Он разбудил меня: наклонился, потряс за плечо. Молодая женщина, которая видела рану на моей спине, сказала, что лицо мое исказилось от испуга, как морда у лошади. Ноздри раздулись, затрепетали, вены на лбу напряглись, зрачки странно расширились. Но это было только в первую минуту. Потом я пыталась договориться с ним, упрашивала по-румынски. По-венгерски же я умоляла остальных: здесь поблизости — комендатура, пусть кто-нибудь пойдет туда и скажет! позовет на помощь! Или пусть пошлют ребенка, ведь известно, что детей русские не обижают. Но никто не двинулся с места. Восемьдесят человек слышали мои мольбы и не сделали ничего. Я показала, что закрою дуло автомата, положу на него ладонь, чтобы солдат не мог стрелять. Они боялись, и молчали, и стерпели, что меня изнасиловали на глазах у них и у детей.
Как же они оправдываются за это перед своей совестью? А как оправдаться перед собой мне, если я не пришла кому-то на помощь — а сколько раз это было! — потому что боялась…
Как бы крепко я ни спала, я просыпаюсь, если с улицы донесется пронзительный крик. Выбегаю на балкон, пытаюсь понять, что происходит, думаю, хоть брошу вниз что-нибудь, вазу или горшок с цветами, ведь нужно что-то сделать, потому что кто-то зовет на помощь, и я знаю, что люди не выйдут из домов. Когда я звала на помощь, никто не двинулся с места. Когда я звала на помощь на улице… А ведь из окон кто-то выглядывал. (Значит, страх, а не любовь сильнее всего?)
Той ночью, когда я сбежала из дома священника, меня никто не впустил, а потом, гораздо позже, где-то в маленьком венгерском городке я оказалась на улице — и напрасно умоляла, чтобы меня пустили хотя бы в подвал, или на стул в прихожей, или в сарай — нет и еще раз нет. Зимой нельзя оставаться на ночь без крыши над головой. К рассвету ты обязательно устанешь, а стоит присесть — замерзнешь. Мне страшно одной в чужом городе, ночью, на улице. Я могла бы бояться и нападения: ведь это может случиться и в мирное время, даже в Будапеште. Но я боюсь скорее одиночества, отверженности.
И я на собственном опыте поняла, что не могу противостоять мужчине, я слабее, защищаться и отбиваться невозможно, потому что они бьют сильнее, убежать нельзя — догонят. Немногого стоит и совет: бей по половым органам нападающего, бей между ног, как сейчас говорят: “Бей по яйцам!” Один раз ударить можно, но в следующую минуту ты уже на земле и, скорее всего, больше не поднимешься: тебя прикончат.
Но тогда, в подвале, почему столько людей боялось, почему не осмелились прийти на помощь? Понять это можно, но я всякий раз удивляюсь, когда изредка вспоминаю об этом.
Иногда русские забирали нас рыть окопы, и это был настоящий ад — под градом снарядов долбить киркой промерзшую землю. Но мы получали от них пищу.
Бывало, мы помогали на кухне. Это было большое, полуразрушенное снарядами помещение с цементным полом. Один из солдат под стиральным котлом разводил огонь, дымоход сквозь пустую оконную раму выходил во двор. Дверь была открыта — или ее просто не было? Потому до нас и доходило оттуда какое-то тепло. У повара не было одной ступни, так он и работал, с забинтованной культей.
Русские были люди невероятно смелые, они ни во что не ставили боль и страх.
Повар стряпал, мы чистили картошку.
Они частенько варили суп: кипятили воду в огромном котле, бросали туда куски говядины, потом — много капусты, лавровый лист, потом картошку и под конец — галушки с ладонь величиной. Не знаю, как этот суп называется, но на вкус он очень хорош. Ну и, конечно, наварить такого супу на несколько сот человек — дело нешуточное.
Картошку мы чистили на морозе, сидя на корточках на голой земле, пока не уставали до смерти. За это мы получали по тарелке супа — свою я относила Мами. Нам отдавали и картофельные очистки. Мы несли их тем, у кого совсем нечего было есть, и запасали к весне, на рассаду. Потихоньку срезали слой кожуры потолще, чтобы оставить себе ростки. Потому что тогда, в феврале, уже ясно было, что к весне война не закончится и картошки не будет.
Однажды утром женщин снова собрали, и какой-то молодой парень вызвался спасти меня от принудительных работ. Он лег рядом со мной, обнял, я укрылась с головой, и меня не заметили. А через час стали собирать мужчин. Я сказала: “Теперь уж я вам помогу, оставайтесь здесь”. Я суетилась над ним, укрывая соломой, тряпками, всяким барахлом. Мужчин не хватало, так что забрали и меня. На весь день у меня были две маленькие пышки, я наскоро их проглотила и запила своей порцией воды: думала, русские дадут поесть. Но офицер обругал солдат за то, что те опять пригнали на такие тяжелые работы женщин, и меня отправили обратно в подвал. И угораздило же меня съесть эти пышки! Всем было смешно, даже мне.
Мы уже сильно голодали, когда той женщине, которая читала молитву к Богородице — ее место было на четвертом лежаке слева от меня, — принесли свежего хлеба. Они порезали хлеб на кусочки и стали есть. Я так разволновалась, мне так страшно захотелось хлеба, что меня прошиб пот; я раздумывала, подойти ли самой или послать туда кого-нибудь из детей, чтобы за кусочек хлеба предложить мое единственное сокровище — масло “Ветол”.
Дело в том, что в кармашке той самой клетчатой блузки, застегнутом на пуговицу, у меня хранился флакончик масла “Ветол” — это немецкое масло для лечения ран. Я хранила его как драгоценность, хотя на собственном опыте убедилась: если смазать им рану, она не затянется, а, наоборот, загноится. Но у меня не было больше ничего, кроме английской булавки да кусочка высохшей, заплесневевшей колбасы. Я берегла ее до последнего: пусть останется на случай, если когда-нибудь я сама или кто-нибудь другой упадет в обморок от голода. (Ее я сохранила-таки до самого конца войны и добралась с ней до освобожденного Будапешта. Но это будет потом… А сейчас?)
Сама я не осмелилась подойти к той женщине, предложить ей выменять хлеб. Как это случилось, не знаю: для меня это было как чудо, как воплощение самой доброты, словно небеса разверзлись надо мной: она сама прислала мне со своим ребенком ломоть настоящего, свежего, мягкого, вкусно пахнущего хлеба.
Я ела медленно-медленно, чтобы растянуть удовольствие. Счастье хлеба, которого мы не видели уже несколько недель, счастье еды, счастье доброты — вот чем был для меня тот ломоть.
Вернулись немцы, потом — снова русские. Немцев я всегда боялась больше. Если они говорят: “казнь” — можешь быть уверен: наверняка казнят. Страх начался еще с гестапо, было в нем и что-то атавистическое. Гонения против евреев лишь углубили его.
С русскими никогда ничего нельзя было предвидеть, предугадать; удивительно, как с их неорганизованностью у них что-то вообще получалось. Если они уходили, то никогда не прощались, а попросту исчезали. Возвращаясь, они приветствовали нас с невероятной радостью, громкими криками, подхватывали, подбрасывали в воздух, словно встретили самых близких и родных людей. Они были люди с добрым сердцем, но невероятно дикие.
Прежде всего мы научились у них ругательствам. “Еб твою мать” — вот была первая настоящая русская фраза.
В подвале одна женщина рассказывала: “Выхожу и вижу: все, капут!” Кто-то спрашивает: “Что копают?” Смех. “Капут” по-русски значит “конец”, “крах”, “смерть” или что-то в этом роде. Во всяком случае, слово это мы выучили и часто употребляли, вскоре у нас сложился “фронтовой жаргон”.
Самым ходовым у нас было русское слово “забрать”, которое мы переиначили в венгерский глагол — “забральни”. Даже не знаю, как оно могло сейчас забыться, ведь оно было в употреблении еще лет двадцать после войны.
В подвале не было ни минуты веселья, радости. Голод, нищета, грязь, вши, болезни не давали нам поднять головы; вечный страх и, разумеется, прежде всего и превыше всего — артобстрелы и войска, то русские, то немцы.
Мы вывели или думали, что вывели, закономерность: после каждого крупного боя или после того, как деревню отбивали у противника, следовали три дня дозволенного мародерства. Свобода грабить и насиловать. Потом вступал в силу запрет: говорили, что за доказанное изнасилование солдата могли расстрелять.
Не помню, как я попала однажды в такую ситуацию: передо мной выстроили шеренгу солдат, и я должна была показать на того, кто меня изнасиловал. Помню лишь смутно: морозным зимним утром я прохожу перед строем, солдаты стоят вытянувшись, ровно, по стойке “смирно”. Слева меня сопровождают двое офицеров. Пока я прохожу вдоль шеренги, они держатся чуть позади. В глазах одного из солдат я увидела страх. У него были голубые глаза, паренек был совсем молодой. По этому страху я и догадалась: это он. Но таким сильным, таким жутким было то, что блеснуло в его глазах, что я сразу почувствовала: нельзя. Нет никакого смысла убивать этого мальчишку. Зачем, если другие останутся безнаказанными? Да и этого, единственного из всех, зачем?
А вот другим зимним утром наказали меня — высекли плетью. Что было причиной, точно уже не припомню. Нет даже желания выяснять: все как-то перепуталось в памяти (как и многое другое). Меня раздели до пояса, вокруг встали несколько солдат, и один из них равномерно стегал меня плеткой. Плетка не кнут, а гибкая коса из ремешков, по форме напоминающая змею, к концу она сужается и заканчивается узелком. Естественно, есть и рукоятка. Если ударить посильнее, на коже останется рубец. (Мне не было особенно больно, а может, и было, но я ощущала в себе какое-то упрямство или что-то еще, о чем до сих пор не говорила. Весь этот кошмар я смогла вытерпеть потому, что знала: самым ужасным было то, что взяли Яноша, и то, как его забирали. Это и переполняло мою душу, а еще — зрелище разрушенной деревни, судьбы женщин, детей, мужчин; и, конечно, я сознавала: то же самое и так же происходит сейчас по всей стране.)
В другой раз — не помню уже, что произошло, — меня ранили, и на руках отнесли к русскому врачу. Тот наложил перевязку, меня приласкали, повели обедать в солдатскую столовую. Видно, в тот день у них было что есть. Меня накормили куриным супом, потом срезали корочку у буханки хлеба, вынули мякиш, положили туда всю оставшуюся куриную печенку — восемь или десять штук — и дали мне с собой. Конечно, это было неслыханное богатство, я со всех ног побежала с ним к Мамике.
Такими были русские. Одной рукой побьют, другой — приласкают.
Иногда дело доходило до драки: один хотел спасти тебя, другой — изнасиловать, один — побить, другой — вылечить, один — что-то отнять, другой — дать.
Часто они заявлялись сияющие, приносили нам что-нибудь в подарок. Потом оказывалось: “подарок” украден у соседей. Иногда мы уносили к соседям свои вещи — спрятать, а русские воровали их там и, ничего не подозревая, одаривали ими нас же. Но мы и сами не были ангелами: бывало, запускали руку в их имущество, но они не сердились. Вообще, на войне было что-то вроде совместной собственности. Может быть, смешно, что я пользуюсь этим выражением, но оно очень точное. Просто мы долго этого не понимали. Когда все страдали от голода, русские делились с нами последним куском.
В то время мы ели редко и мало. Марианна, ее бабушка и Клари тоже попали в подвал, старушка отдавала за тарелку супа наполеоновскую золотую монету. Суп ей приносили тайком, и они ели его одни, ни с кем не делясь. Ведь на всех все равно не хватило бы. А то, что мы приютили их, спасли, делились с ними своей порцией, — это не считалось. Я не особенно обижалась; просто казалось странным.
Девочка одолжила мне кожаный ремешок, мне было теплее в широком пальто, опоясавшись им. А однажды, два года спустя, они навестили меня в Будапеште и попросили вернуть ремешок. Это меня тоже сильно удивило.
Две охотничьи собаки, оставшиеся в живых, поначалу жили с нами в доме священника. Не знаю, были они семейной парой или братом с сестрой (родными или двоюродными), но друг друга они очень любили. Они были крупные, красивые, а Филике — маленький и тощенький. С этими двумя собаками мы очень хорошо ладили, чаще всего они были со мной, только в подвал я с ними не спускалась. Однажды утром, еще при Яноше, одну из них застрелили русские. По глазам другой было видно, как она страдает. Она страдала невыразимо. Она была очень ко мне привязана; но, когда я выпрыгнула в окно и Филике побежал за мной, она осталась в доме.
Кличка ее вот уже несколько дней занозой стоит в моей памяти, но я никак не могу выговорить ее: помню звучание, мелодию, но само имя все не вспоминается. Она увидела, стоя у ворот дома священника, что я иду по противоположной стороне, и, счастливая, с сияющими глазами, одним прыжком метнулась ко мне через дорогу. Приближался грузовик. Я кричала, чтобы она остановилась, — напрасно. Удар пришелся прямо в живот. Она чуть-чуть приподняла спину, посмотрела в мою сторону, потом раз или два дернулась и застыла. Я подхватила Филике на руки, закрыла ему глаза, чтобы он не видел. Шел снег. Когда я возвращалась, ее уже оттащили с проезжей части, чтобы военные машины не раздавили ее в лепешку, и труп был уже наполовину занесен снегом.
Но ведь так было лучше — я и чувствовала, и знала это. Куда мне было податься с такой огромной собакой. В подвал ее не возьмешь. Чудо еще, что Филике русские еще как-то терпели: собак они обычно пристреливали. Немцы любили собак, а русские — детей.
В конце концов обитатели подвала все-таки обнаружили Филике. Скандал, крики: со мной и так хватает неприятностей, из-за меня русские обыскивают подвал, совсем их измучили, так что собаку придется выгнать.
Я пошла с Филике к Мами, просила, чтобы хозяева взяли его к себе. Его взяли, правда, неохотно. Филике ничего не ел, а ведь ему давали молоко, даже мясо. (По тем временам это было чудо; не знаю, где они их доставали.) Два дня он отказывался от пищи. Когда я подходила к нему и он меня замечал, он радостно бросался ко мне, покусывал за руки, за щиколотки. Было больно, но кусался он от счастья. Потом он, если я стояла рядом, ел — и при этом не сводил с меня глаз.
Придя снова через два дня, я во дворе повстречалась с Филике, позвала его. Он отвернулся и проследовал дальше. Я плакала, умоляла, но Филике не желал меня узнавать. Если я становилась на его пути, он обходил меня, равнодушно глядя в сторону.
Так я потеряла Филике. Он был в безопасности, но я почувствовала, что теперь осталась совсем одна. За всю войну я больше ни разу не плакала. После этого я не могла плакать многие годы.
Те, кто меня окружал, один за другим умирали, приходили и уходили, или их уводили — к ним я постепенно стала равнодушна. Но в безотрадных буднях подвальной жизни, среди грязи, вшей, среди оплакивающих потерянные ценности, ссорящихся людей у меня оставался единственный товарищ — Филике.
Я покрывала голову черным платком, мазала лицо пеплом и грязью — так пытались себя обезопасить женщины. Однажды мне надо было перепрыгнуть через канаву. На мне были белые валеночки с носами и задниками из черной кожи. Красивые венгерские валенки. Войлок привез с русского фронта Янош, а сами сапоги изготовил офицерский сапожник в Коложваре. Прыгая, я на мгновение перестала горбиться по-старушечьи. Меня заметил из окна начальник комендатуры и велел доставить к себе. Как меня к нему привели, совершенно не помню: то ли меня просто потащили туда, то ли повели, будто на официальный допрос. Комендатура была рядом с подвалом.
Он принял меня очень любезно, накормил сытным ужином. Я ждала, что будет дальше. Если я останусь с ним на ночь, сказал он, получу половину свиной туши. Господи Боже мой, половина свиной туши, в то время!
Не раздумывая, я согласилась с ним переспать. Здесь были относительная чистота и порядок, имелось даже какое-то подобие окна со стеклами. Может быть, единственное во всей деревне. В постели, потрогав меня, он сказал, что у меня какие-то выделения — “вода”. Может быть, он даже спросил, не больна ли я. Откуда мне было знать! Разве можно знать после стольких русских, есть ли у тебя сифилис или гонорея? “Не знаю”, — сказала я. Он как-то успокоился. Он был довольно нежен и ласков со мной, но это было мучительнее, чем быть изнасилованной без всяких предисловий. Я солгала бы, если бы сказала, что “старалась хорошо себя вести”. Рано утром я захотела уйти. Попросила отпустить меня.
Идя по коридору, я столкнулась с той самой кухаркой, что когда-то работала в госпитале — теперь она была кухаркой при комендатуре. Она смотрела на меня, любимицу всего госпиталя. Я легла в постель, хотя меня не били, — по ее глазам видно было, что она обо мне думает. Я — шлюха.
Собственно говоря, я и была ею — в прямом смысле слова. Шлюха — кто ложится в постель ради денег или какой-нибудь выгоды. Шлюха — кто сознательно расплачивается за что-то своим телом. За молоко или за матрас.
Конечно, там это мне и в голову не приходило. Я не думала об этом. Я вообще ни о чем не думала. Лишь безмерная горечь наполняла меня. Было невыносимо, но не это, а все, вообще все. Это серое утро… Чем стало для меня это серое утро? Пределом человеческого унижения. Свиную тушу, правда, мне так и не дали. От этого стало легче.
На войне человек становится страшен и непостижим.
К замку Эстерхази, как я уже рассказала в свое время, немцы отнеслись не слишком почтительно: бросали во фрески банки с вареньем, пинали ногами чудесную старинную мебель. Говорила я и о том, что Эстерхази выбили днище у нескольких сотен бочек с вином, и люди, ругая графов, таскали вино ведрами, а те всех предупредили, чтобы не оставляли винные погреба полными, выливали вино. Откуда они знали, что так надо делать? Из истории.
Позже это стало уроком и для нас. Напившись, русские и немцы становились куда злее, чем трезвыми. Обычно мы больше всего боялись встретиться на дороге с пьяными солдатами.
Но разве венгр в силах расстаться со своим вином? Все берегли свои погреба.
Русские отнеслись к замку еще с меньшим почтением, чем немцы. Они так и не научились — или не удосужились попробовать — растапливать украшенные рельефами фаянсовые печи на медных ножках, а ведь печи эти топились очень хорошо и сохраняли тепло до следующего дня. Окна — если те случайно остались целыми — они разбивали, потом заколачивали досками. Выведя через какую-то дырку трубу маленькой буржуйки, топили в залах замка, как в хибарке. Паркет разобрали, всюду был разъедающий глаза дым; спали на полу, на соломе. А изразцовые печи разбили вдребезги.
В одной из комнат замка, огромной, как зал, они устроили лазарет. Один раз солдаты — уже не помню, мужчины или женщины — повели меня туда работать. Конечно, как всегда, шла стрельба: обстрел, ответный огонь. Раненых приносили на носилках, на руках, на спине, кто как мог. Их укладывали на солому, покрывавшую весь зал. Стояла страшная вонь: пахло кровью, водкой, грязью, отсыревшей одеждой, потом, смрадным дыханием. Стон и плач слышались редко. Среди раненых хлопотали одна или две женщины в резиновых перчатках по локоть. Зачем они надели эти перчатки? Чтобы защитить руки? Или раненых — от бактерий? Не думаю, потому что раненые лежали на соломе, среди ветхого, рваного тряпья, в испражнениях, грязи, крови, плевках. О руках обычно они и не думали.
Мне велели быть на подхвате и тут же направили к одному из солдат, пальцы у которого висели, оторванные и раздробленные. Я спросила, что я должна делать, не помню, на каком языке, кажется, по-румынски. Но, возможно, к тому времени я могла сказать это и по-русски. “Что можно спасти — оставить и перевязать, — ответили мне, — остальное отрезать”. — “Чем?” — спросила я. “Ножницами, чем же еще? Найти какие-нибудь ножницы и отрезать”. Меня охватил ужас, это выходило за рамки моих представлений о гигиене. (В конце концов, чем здесь рискуешь? Если не отрезать, начнется гангрена. Но грязными ножницами, без наркоза отрезать пальцы у человека, находящегося в полном сознании? На это я была не способна.) Я повернулась и вышла, зная, что за это меня могут побить или даже расстрелять.
Не буду описывать вывалившиеся кишки и тому подобное. Русские санитарки вели себя словно домохозяйки на кухне, готовящиеся к празднику: отдавали распоряжения, перекрикивались друг с другом, с мужчинами-санитарами, больными — никакой трагедии. Им даже как будто доставляли удовольствие все эти страсти: ведь они чувствовали себя господами положения. Ну, а я этого не могла. Думаю, из-за этого меня даже презирали.
На моих глазах солдат, у которого нога была ампутирована по щиколотку, снова отправился в бой — верхом, в окровавленных бинтах. (Хотя, возможно, я видела это когда-то раньше.)
У другого солдата рука была раздроблена автоматной очередью. Принесли топор; пока его затачивали, солдата поили водкой, чтобы довести до бесчувствия и тогда уже отрубить руку. Обычно они основательно накачивали своих раненых спиртным, а потом принимались за дело. Так поступали и в средние века.
“Сталинский оргáн”?! Когда начинал звучать “сталинский оргáн”, земля содрогалась у нас под ногами, мы задыхались в черном дыму, убегали от ужаса в дом. А ведь мы только слушали его со стороны! Что же чувствовали те, в кого летели снаряды? А “сталинская свечка”! Ночью с неба медленно спускается свеча, ослепительным светом озаряя окрестности. Можно начинать бомбардировку!
Во время воздушных налетов русские солдаты выбегали из домов, хватали автоматы и, смеясь, палили по самолетам.
Я услышала от кого-то, что некий переводчик по имени Якаб Бенё может узнать в комендатуре что-нибудь о наших угнанных мужчинах, а значит, и о Яноше. Мне сказали, где он живет. Я отправилась туда. Это был маленький крестьянский домик. Я знала, что с улицы лучше не заходить: все дома заняты русскими, — постучала в окошко похожей на кладовку летней кухни, стоявшей за домом. На стук вышла пожилая женщина. Это была тетя Анна. Тетя Анна, о которой очень трудно рассказать, какой она была.
Крестьянка, по внешности уже сильно на склоне лет, вдова, в черном платке, очень скромная, тихая, сухонькая, маленькая. Как я позже узнала, муж ее обращался с ней очень грубо, избивал; тетя Анна нанималась стирать белье, чтобы облегчить себе жизнь хоть на пару часов. У нее был сын, которого она очень любила. Но она давно о нем ничего не слышала: он без вести пропал на фронте. Дочь, Рожика, жила у нее вместе с мужем, Якабом Бенё, тем самым переводчиком. Родом он был из Северной Венгрии и мог объясняться с русскими на “русинском” наречии. (Сюда они приехали из Пешта, спасаясь от бомбардировок.)
По профессии Рожика была — как говорили — уличной шлюхой. Потом вышла замуж за Бенё, который скопил немало денег, работая проводником в спальных вагонах, они построили красивый дом, у Рожики появились тигровая шуба, драгоценности. Много позже они попали в автокатастрофу, и Бенё погиб на месте. Рожика боялась грозы, и, чтобы ненастье их не застало, Бенё слишком быстро гнал машину. Однажды она зашла ко мне в Пеште — тогда я и узнала об их судьбе.
Нрав у Рожики был крутой — в отца, с тетей Анной она обходилась отвратительно. Странно, что меня она приняла как сестру. Она не раз говорила: “Я любила тебя как сестру родную”. И никогда не обижала меня.
Тетя Анна вышла, долго смотрела мне в глаза. “Бенё нету дома, но вы проходите, садитесь”. Я замялась, потому что была вшивая и все такое. Вошла, села осторожно, платок не сняла. Она приободрила меня: “Снимите теплый платок, здесь тепло”.
Крошечная летняя кухня, земляной пол, беленая печка, рядом с ней, у стены, — лежанка, сбоку — кровать, маленький столик, самодельный деревянный стол под окном, стул. Вот и вся обстановка. От печки до кровати — один шаг. Впереди — дверь в большую красивую кухню с цементированными стенами; напротив нее — другая дверь, тонкая, дощатая, в маленький чуланчик для дров и инструмента.
Позже Рожика рассказала, что, когда я к ним постучалась, тетя Анна промолвила: “Это Мария постучала. Дева Мария”. Она почувствовала: от стоящей у двери женщины веет такой чистотой, такой печалью, что ее надо принять. “Если не примем ее, — доказывала она Рожике, — значит, прогоним Марию”. Я ничего такого и не подозревала, при первом знакомстве тетя Анна показалась мне женщиной трезвомыслящей.
На следующее утро в подвал снова пришли — сгонять женщин и мужчин на рытье окопов. В тот раз вместе с солдатами приходил и Бенё, но я не знала его в лицо. Он сам меня узнал по описанию тети Анны. Рядом с местом, где нас собирали, был разбитый вдребезги табачный киоск; входная дверь сорвана, внутри — в беспорядке разбросанные обломки мебели. Он велел мне быстро спрятаться под прилавок, пока у них перекличка; потом он придет за мной. Я просидела там, скорчившись, час или два и успела промерзнуть насквозь: было по-зимнему холодно. Потом он пришел за мной и сказал: “Я отведу вас домой”. И отвел домой — к тете Анне, в маленькую, чистенькую летнюю кухню. Бенё ушел, а тетя Анна согрела воды, принесла корыто, они с Рожикой усадили меня туда и вымыли. Постирали и мое белье, трусы (на них коркой запеклась кровь). Пока они сушились, Рожика дала мне другие. Как же мне стало хорошо после всего этого.
С тех пор я там и жила. Меня кормили. Тетя Анна спала в буквальном смысле на земле — на земляном полу, из-под дверей наверняка тянуло сквозняком. Рожика и Бенё спали на тонком соломенном тюфяке, на кровати. Я — на лежанке.
Поначалу дни шли довольно спокойно. Никто меня не трогал. Пока — не помню, в то время или позже — не появился Петр.
Петру было девятнадцать, он был советским солдатом, и он влюбился в меня. Из этого следовало, что он не хотел меня насиловать. Чтобы защититься, я стала говорить, что у меня больное сердце. “Нет, — сказал он, кладя руку мне на бедро, — тут не надо”. Потом положил руку мне на сердце: “Вот что надо!”
Он объяснял, что в России на улицах тротуары, водосточные желоба и грязи никогда не бывает. Повернешь колесико, и из крана идет чистая, вкусная вода. И еще капусты, картошки можно купить, сколько хочешь. И хлеба, каждый день.
Он описывал все это, словно какую-то волшебную страну чудес, лишь бы мне захотелось уехать с ним. Он всерьез решил жениться на мне. По утрам он выходил на двор и распевал по-русски во все горло: “Виорита моя женка будет!”
Как-то раз из-за меня произошел небольшой несчастный случай. Я сидела, Петр склонил голову мне на колени; я хотела оттолкнуть его, приподняла ему голову, а он дернулся в сторону, и мой палец попал ему в глаз.
Вбежали его товарищи, решили, что я хотела выколоть глаз советскому солдату. Петр отчаянно кричал: “Виорита не хотела!” Потом вошла Рожика с тетей Анной. Тетя Анна плакала, упрашивала не трогать меня. Пришел Бенё и сказал, что это было не нарочно. Эта волынка тянулась довольно долго, в конце концов яростные крики Петра возымели действие, и меня оставили в покое.
Сергей. Когда к нам ворвались двое или трое русских — снова хотели меня изнасиловать, — не помню уж как и что, но Сергей меня, собственно, даже не трогал. Помню только, он стоял и кричал, когда Рожика побежала в комендатуру звать на помощь: опять солдаты насильничают. Увидев это, товарищи Сергея сбежали, он остался один. Прибыл патруль, Сергею нещадно расквасили лицо и увели. На следующий день Сергей вернулся с двумя или тремя товарищами и орал, что из-за меня ему набили морду. У них между мужчинами и женщинами — равенство. Он поставил меня на середину комнаты: теперь и мне достанется так же, как и ему. Я думала, что получу такую пощечину, что голова слетит с плеч, все зубы вылетят. Приготовилась, закрыла глаза, немного пригнулась, чтобы не упасть. И ждала, когда Сергей ударит. Оглушительный треск: он хлопнул в ладоши и поцеловал меня. Конечно, весь дом сотрясался от хохота.
Собственно, я и сама вспоминаю об этом с улыбкой. Такие у них были шутки.
Но Сергей действительно был смертельно оскорблен, бледен и рассержен, когда ему надавали пощечин.
Этот мордобой, эти потасовки вспыхивали у русских с невероятной легкостью, за ними следовали бурные перепалки, потом все стихало, как будто ничего и не случилось.
Они достали муки, жиру — вполне достаточно, чтобы печь блины. Муку надо развести в воде и выпекать на смазанной жиром сковородке. У нас ничего не было — ни сахара, ни соли. Зато как все были счастливы! Солдаты выстроились в очередь, а мы с Рожикой все пекли и пекли блины с утра до самого вечера. Мы уже с ног валились, мы видеть этих блинов не могли, а солдаты все шумели, как обычно в очередях, толкались, поторапливали друг друга, требовали свою порцию. Рожика разозлилась, схватила тарелку, на которую мы выкладывали блины, швырнула ее на землю и разразилась бранью. Материлась она по-русски, да и по-венгерски не стеснялась в выражениях.
Результат: Рожику успокоили, подобрали осколки тарелки, принесли другую и снова встали в очередь — тихо, не произнося ни звука. Тарелку всегда держал первый по очереди, мы опрокидывали на нее блин со сковородки, солдат еще горячим отправлял его в рот и передавал тарелку следующему.
Как-то ночью они гуляли: пили, веселились, горланили. Нас, правда, оставили в покое. Утром нам велели убраться в комнате. Тетя Анна сразу же вызвалась. “Нет!” — возражали они, она старая, и приказали пойти мне. Тогда я впервые вошла в четырехугольную комнату, выходящую на улицу. На черном загаженном полу — окурки, блевотина, растоптанные объедки. У стены — два бака с бензином, по всей комнате — прислоненные к стене автоматы (похожие на короткоствольные ружья), а они сидели, по своему обычаю, в стеганых тулупах на меху и смотрели, как я мету, а затем отмываю пол. Поддразнивали, шутили: вот и мне, барышне-белоручке, приходится потрудиться. Было нелегко, блевотина воняла, а они сидели не шелохнувшись. Я залезала под стулья, мыла пол у них под ногами. Они хохотали. Один поставил ногу в сапоге на мою руку, я чувствовала, что он не наступил, просто хотел напугать, но металлическая набойка с зазубриной порвала мне кожу на тыльной стороне ладони. Совсем неглубоко, но кожа у меня тонкая, кровь полилась ручьем. А я назло им продолжала мыть пол как ни в чем не бывало. Поднялся жуткий гвалт, солдата, который наступил мне на руку, избили, отругали на чем свет стоит, а меня потащили к русскому врачу. Тот тоже на них рассердился. А они завалили меня подарками (ложка, карманный ножик, две полбуханки хлеба и пестрое летнее платье). Мы с Рожикой здорово посмеялись.
Так мы и жили.
Иногда у нас не было ничего, кроме пустого отвара ромашки без сахара, а в полдень — жидкой, пресной гречневой каши на воде. Русских не очень заботило, есть у них еда или нет.
Пока Бенё был в отъезде, прибыли новые части; мне не давали проходу, терпеть это стало не под силу. Я переселилась к соседям: там в дровяном сарае жила семья с пятью детьми, их не трогали, так как у мужа была сломана нога, он был в гипсе, и, вообще, русские с уважением относятся к семье, в которой пятеро детей. Они всемером ютились в дровяном сарае. Там стояла поленница, на нее дядя Михай (у которого была сломана нога) набросал соломы, на ней-то я и спала, укрывшись одеялом. Спальное место было хорошее, высокое. Но что бы мы ни делали, я всегда чувствовала, что лежу на дровах. Это было бы не так страшно: на войне неважно, удобно ли тебе спать. Но из поленницы, когда было тихо, выползали какие-то красные жучки; их привлекало тепло тела, и они ползали по мне вместе со вшами. Когда стреляли, жучки прятались. Так и шло: или я не могла заснуть из-за обстрела, или на мне резвились жучки. Вшам было плевать, что мы намазались керосином, этих насекомых тоже нисколько не смущал его запах.
В конце концов я вернулась к Бенё и тете Анне.
Не знаю, что произошло и от чего я так смертельно устала. Я как-то уже не боялась солдат; просто было страшно просыпаться оттого, что дверной замок разнесен очередью из автомата и солдаты врываются в комнату, было страшно, что в любую секунду могут выбить дверь. Бесконечное насилие, усталость, грязь, болезнь, которая была во мне, приступы жара — не знаю точно, что именно я не в силах была уже вынести. (Бежать было некуда, мы находились в самом центре зоны боевых действий. Это было самое страшное место во всей Венгрии: здесь, между Бичке и Ловашберенем, линия фронта застряла на целых три месяца.)
Может быть, последней каплей стало для меня вот что: молодая женщина, на девятом месяце беременности, во время боя спряталась в амбаре, и осколок снаряда попал ей в живот: сначала вывалились кишки, следом — ребенок, он корчился на земле, а мать, крича, смотрела на него, пока не умерла.
Такое вынести нельзя. Бога нет. Невозможно, чтобы он это терпел.
Тетя Анна — только в ней я еще находила в этой жизни успокоение, чистоту, доброту. (Мамика была отрезана от меня линией огня.) А перешла ли вообще деревня в руки противника? Никогда ничего нельзя было знать наверняка.
И вот однажды, когда уже не осталось сил это терпеть, я приглядела бетонное кольцо колодезного сруба: о него я разобью себе голову. В другой раз я искала большой камень, чтобы ударить себя по голове и расколоть череп. Поезда, под который можно было броситься, не было. Выпрыгнуть из окна? Но высокие этажи были только в замке, а он был полон русских. Может, надо искать веревку.
Хочу рассказать один сон, который преследует меня еще с тех пор, в разных вариантах. Я убегаю, за мной гонятся русские. Ноги у меня как свинцовые, я бегу еле-еле, а надо быстрее — они догоняют меня. Ветвистое, высокое дерево. Я карабкаюсь на него, срываюсь, падаю на землю. Они уже рядом, я вижу их лица, глаза. Каким-то образом я залезаю обратно на дерево. Уцепилась, держусь, но они тоже оказываются на дереве. Я карабкаюсь по какой-то ветке, все выше, все дальше от ствола, падаю, вот я уже на земле. Они спрыгивают за мной. Я бегу изо всех сил. Передо мной стена. Взбираюсь по ней. Из пальцев сочится кровь. Я цепляюсь за щели в кирпичах, чтобы попасть на крышу, ногтей уже нет, их сорвало, когда меня дергали за ноги. Я снова бегу, попадаю в какой-то дом. Мечусь по чердакам, подвалам; окна, двери. Меня догоняют. Я вбегаю в туалет, запираю за собой дверь. Знаю, что ее взломают, но пара секунд у меня еще есть. Влезаю на сиденье унитаза, шарю в бачке, знаю, что там есть гиря, хочу достать ее, чтобы разбить себе голову. Но они уже ломают дверь, гиря у меня в руке. Один из русских приближается ко мне, протягивает руку, я замахиваюсь, чтобы стукнуть гирей ему по голове… И в это мгновение просыпаюсь, задыхаясь, обливаясь потом, сердце колотится как сумасшедшее…
Долгие, долгие годы мне снился этот сон. Сейчас снится все реже. Но я до сих пор блуждаю во сне в незнакомых домах, убегаю от кого-то, а кто-то все еще врывается ко мне в дверь, лезет в окно. Только сейчас, когда я это пишу, я понимаю: мне неспокойно, если дверь оставлена открытой (кто войдет в нее, чтобы схватить меня, потащить за собой или повалить на землю, избить?). Но не люблю я и крепко запертых дверей. Знаю, что это всего лишь иллюзия (я научилась у русских, как открыть любую дверь фомкой) — но ведь если дверь заперта, я не смогу убежать достаточно быстро.
Я налила в бутылку бензина и сказала тете Анне: если русские опять будут к нам ломиться, я разобью эту бутылку о печку. Мы днем и ночью поддерживали в печке слабый огонь, чтобы не замерзнуть.
“Тетя Анна, — говорю я, — когда дверь взломают, вы встанете за ней. Дверь защитит вас от взрыва, вы выскочите, побежите на двор и сразу ляжете в снег. Осторожнее, только лицо закрывайте”.
Тетя Анна, которая была такой доброй, набожной и верующей, поглядела на меня и тихо сказала: “Не буду я стоять за дверью”.
Может быть, русские почуяли что-то по моим глазам? Не знаю, но они оставили меня в покое. Или, может, это просто случайность, что пару дней было тихо.
Потому что вообще-то не было ни тишины, ни покоя. Обстрелы, раненые, грязь, рытье окопов, вши, голод.
Затем, как я позже узнала, деревню эвакуировали. Но тогда мы об этом не подозревали. Может быть, я еще и не ушла бы с семьей Бенё: ведь мне нужно было заботиться о Мами. Обычно эвакуация происходила так: дома обходили с приказом — оставить деревню в течение десяти минут. Жители связывали в узлы все, что успевали схватить, грузили на тачку или тележку (у кого что было), брали за руку детей и торопливо шагали туда, куда их гнали. Если старушки, вроде Мами, ходить не могли, им разрешали остаться в домах. Если бы я была там, может, я попыталась бы вывезти Мами на тележке.
Мы с Бенё и Рожикой отправились в Будапешт, потому что знали, что моя мама живет у дяди Габора на улице Векерле. Выехали мы на телеге, запряженной одолженной у кого-то лошадью — она едва передвигала ноги, — запасшись бумажкой на русском языке. (Бенё вроде знал, что на ней написано.) Мне трудно было расстаться с тетей Анной. Она по собственной воле осталась в доме с русскими. Тетю Анну никогда не обижали — ее любили за то, что она старенькая, за ее кротость и доброту.
Сейчас ее уже нет в живых. Если существует царство небесное, то тетя Анна там. (Моя подруга Юдит сказала, что не верит в Бога. “Хорошо тебе, — сказала я, — тогда для тебя после смерти нет ничего — ни ответственности, ни чистилища, ни страданий, ничего, кроме небытия”. — “Да, — сказала она. — Остается только сомнение: а вдруг все-таки есть?”)
Мы шли и шли. Толкали, тянули телегу и лошадь. Кое-где стреляли, потом вдоль дороги тянулись оставшиеся после боев руины, валялись трупы; последних, надо сказать, было немного. Наконец мы прибыли в Будапешт. Город лежал в развалинах, но, к нашему удивлению, домов оставалось относительно много; мы-то думали, что столицу сровняли с землей.
Иногда нас останавливали, но Бенё показывал бумажку, и нас отпускали. Мы добрались до места, где раньше был мост Маргит. О том, как он был разрушен, ходит много легенд. Одну из них рассказала моя сестра Иренке. Она как раз собиралась ехать по мосту на трамвае. Но он так долго стоял, что она вышла пописать. Когда она вернулась, трамвай уже тронулся, и она видела с берега: мост взорвался, одна половина трамвая, оказавшегося как раз посередине, осталась в воздухе, другая рухнула в Дунай. Было ясное утро.
Когда мы подошли туда, русские возводили временный мост. Интересно было на это посмотреть. Два высоких полукружия: одно от Пешта до острова Маргит, до его оконечности, другое — от острова до Буды. Все — из дерева, доски скреплены так, как у нас в Трансильвании скрепляют кадушки и лоханки; арки моста — крутые, высокие. В тот момент его как раз красили. Нас с телегой не пропустили: заставили остановиться и красить мост. Кажется, красили его в красный цвет, но до конца не уверена в этом. Я взяла кисть и стала красить.
Стоял уже, кажется, март, но все еще было холодно. За весь день пути мы ни разу не поели. Я хотела попасть к маме до вечера. После захода солнца по улицам ходить было запрещено, тогда действовал комендантский час. Я уже достаточно хорошо говорила по-русски и сказала, что мне плохо. Положила кисть и пошла. Вслед мне кричали, грозились побить. Я ответила им по-русски какой-то грубостью и продолжала идти. От удивления они не стали меня преследовать.
Тем временем Бенё с женой как-то удалось проехать. Я дала им наш адрес. Если мама и родные живы… А если нет? Не знаю, что бы я стала делать. В кармане у меня было масло для ран и кусочек засохшей колбасы. И я направилась в сторону улицы Шандора Векерле. Смотрела на дома, разрушенные и уцелевшие. На улицах уже не было трупов — лошадей и мертвых тел. После Чаквара Будапешт казался мирным и благоустроенным.
Я нашла дом шестнадцать по улице Шандора Векерле. Задняя часть дома выгорела. Все черное, обуглившееся, обгорелое, квартиры просматривались насквозь. Я стояла и смотрела. Квартира, соседняя с той, где жил дядя Габор, обрушилась. Это была квартира тети Грюнберг, которую я очень любила.
Я медленно поднялась по ступенькам. Над двери был звонок, тот самый, прежний. Я едва поверила глазам. Позвонила. Уже не помню, как мы встретились, кто и что говорил. В квартире было много чужих. Хозяева приняли к себе жильцов из сгоревшей части дома.
В окнах не было стекол, рамы заклеены бумагой, но, помню, я удивилась и поразилась: стол накрыт белой скатертью. Был ужин, настоящий ужин.
Мы сели и принялись за еду. Я была вся грязная, вшивая, успела только помыть руки — ничего другого не пришло в голову, так как в квартире все было вверх дном.
Конечно, мама плакала, и была счастлива, и обнимала меня. И я тоже смотрела на нее и радовалась ей. Я была рада, что они живы, но радовалась не слишком сильно.
Слишком сильно я не радовалась уже ничему и ни во что слишком сильно не верила. Я уже носила в себе болезнь — гонорею, из-за которой потом так и не смогла родить, и не знала еще, есть у меня сифилис или нет. У меня было подозрение, что я очень заразная, а заразить я никого не хотела.
Мы сидели за столом, я так и не вытащила свою припрятанную колбаску. Здесь это показалось бы смешным. Подали язык с томатным соусом. Я изумленно смотрела на него и ела тихонько, беззвучно.
Говорили о том, что русские насилуют женщин. “У вас тоже?” — спросила мама. “Да, — сказала я, — у нас тоже”. — “Но тебя-то не тронули?” — спросила мама. “Никого не пощадили”, — сказала я и продолжала есть. Мама глянула на меня и сказала удивленно: “Но почему ты позволила?” — “Потому что били”, — сказала я и продолжала есть. В этом вопросе я не видела ничего важного или интересного.
Тогда кто-то спросил непринужденно и шутливо: “А много их было?” — “Я не могла сосчитать”, — сказала я и продолжала есть. “А представляешь, у нас в подвале даже вши были”, — сказала мама. “У нас тоже”, — сказала я. “Но у тебя-то не завелись?” — спросила мама. “Завелись”, — ответила я. “У вас головные вши были?” — спросила мама. “Всякие”, — ответила я и продолжала есть.
Потом разговор перешел на другие темы.
После ужина мама отозвала меня в сторону и сказала: “Доченька, ты не шути так грубо, еще поверят!”
Я посмотрела на нее: “Мамочка, это правда!” Мама расплакалась и обняла меня. Тогда я сказала: “Мамочка, я же говорила, никого не пощадили, всех женщин изнасиловали! Вы сказали, здесь тоже хватали женщин”. — “Да, но только шлюх. А ты не такая”, — сказала мама. Потом бросилась мне на шею, умоляла: “Доченька, скажи, что это неправда!” — “Ладно, — сказала я, — неправда. Меня забирали только ухаживать за больными”.
Перевела с венгерского Елена ШАКИРОВА
Источник: Журнал "Нева", № 2 / 2004 г.