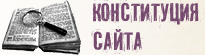07.01.17
Красная Армия в Венгрии. Главы из воспоминаний Алисы де Барца
Текст, который я хочу предложить для рождественского чтения достопочтимым гостям моего виртуального дома, появился при весьма странных обстоятельствах.
Всё началось с письма, автор которого сообщил мне о том, как в букинистическом магазине города Луанг Прабанг (не слабо без Википедии ответить - где это?) он нашел изданные в 1950 г. на английском языке в США воспоминания полячки, которая провела годы войны в Венгрии. Мой тайный доброжелатель ( профессиональный китаевед Кирилл Лучкин) взял на себя огромный (бесплатный) труд перевести, причем перевести блестяще, эту книгу на русский язык. Когда я её прочитал сам, то понял, что это достойное рождественское чтение, причем сразу по нескольким причинам.
Во-первых, действие начинается в ночь перед (католическим) Рождеством, да и первое издание книги называлось "От Рождества до Пасхи". Во-вторых, когда же еще читать такие многословные тягучие тексты, как не длинными зимними вечерами, перед горящим камином, с бокалом глинтвейна в руке. В-третьих, и это самое главное - всё там закончилось хорошо! Никого не убили, не спустили в пыточный подвал, даже не изнасиловали. И это сказалось на мировосприятии пани автора ( Алиса де Барца, литературный псевдоним "Александра Орме"), и она резюмирует свой личный опыт так:
"Я познакомилась с сотнями простых (русских) солдат и не обнаружила среди них ни одного по-настоящему плохого человека. Я много наслышалась, как они воровали, мародёрствовали и насиловали. Они занимались этим, когда бывали пьяны, или когда их командир был злым человеком и оказывал на них плохое влияние. И всегда нужно помнить, что если русский солдат - хороший и гуманный, то это не следствие сдерживающей другие армии дисциплины, а следствие хороших черт, присущих русской нации.
То, что мы называем дисциплиной, в Красной Армии просто не существует. Русский солдат должен был бы быть страшной и опасной личностью, ибо его не сдерживает ни дисциплина, ни религия, и его с детства учат, что Европа населена подлежащими уничтожению кровопийцами. Но познакомься с ним поближе - чего его власти, если только смогут, ни за что не допустят - понаблюдай за ним, когда он не пьян, проведи рядом с ним ночь на связке соломы, поешь с ним из одной тарелки, раздели с ним последнюю твою или его сигарету - и ты увидишь, что нигде нет столько хороших людей, как в России".
*****************************************************************************
Роли исполняют:
ЛИДА – рассказчик; польская гражданка, живущая у брата своего венгерского мужа в поместье Мора.
ДЖАМБО – муж Лиды; крупный мужчина, добрый человек и связующее звено между своей семьёй и группой поляков.
Венгры из усадьбы Мора:
ТАЦИТ – хозяин усадьбы Мора; суровый, молчаливый и очень барственный.
МАРИЕТТА – жена Тацита, урождённая графиня.
ФРАНЦИ – девятнадцатилетний сын Тацита и Мариетты.
ЭЛСИ и девятилетний АЛИК – кузина и кузен Мариетты, бежавшие из Будапешта.
Венгры из Вдовьего дома:
РУДИ – брат Мариетты. Граф с земельными владениями в Южной Венгрии.
ДОЛЛИ – жена Руди, вместе с МУКИ – их шестилетним сыном, и его нянькой, ХОНОНО.
Группа поляков:
ФИФИ – дорогая подруга Лиды, прибывшая вместе с ней из Польши.
ДЖЕК – племянник Лиды.
ЛИНА и МАТИЛЬДА – две венгерских поварихи.
Русские солдаты:
НИКОЛАЙ – задумчивый малый; отличать от Николая-хулигана.
ВИКТОР – позже ставший известным как Виктор-Шаляпин, который пришёл, чтобы грабить,
но остался, чтобы спеть.
МАЙОР СЕРГЕЙ – который жульничал при игре в домино.
ВЫСОКИЙ МАЙОР – который любил охотиться.
КУЗЬМА – татарин, у которого было на продажу два фунта сахару.
МАЙОР БЛАЩУК – который любил банкеты по ночам.
МЛАДШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ САШКА – командир солдат на мельнице, «друг».
КУЗНЕЦОВ – трудный «освободитель».
1944 год. 22 декабря.
Мы с Элси сгребали листья. Мы относили их в огромных корзинах туда, где стояли фиговые деревья, и заботливо покрывали ими голые, изогнутые корни, насмехаясь в то же время над собой. Элси сказала:
- Ты думаешь, что сейчас нет ничего важнее, чем укрыть деревья, чтобы на следующий год у нас были фиги.
- Ничто не сравнится со свежими фигами, - согласилась я, и мы продолжали терпеливо и бессмысленно носить огромные корзины, полные гнилых, прело-пахнущих листьев. Мы пришли к согласию, что должны провести ночь в винном погребе, поскольку фронт не мог быть дальше двух-трех милей от Моры, и утром, должно быть, бой будет в самой деревне.
Но кто будет сражаться, и с кем? В деревне не осталось ни одного немца.
Мы пошли назад, в усадьбу. Она принадлежала младшему брату моего мужа, которого мы звали Тацитом. В этом прозвище была лишь доля шутки, ибо он действительно был очень неразговорчив[1]. У него была жена Мариетта и сын Франци, но описывать всю его семью было бы сейчас преждевременно. Лучше начать с начала.
Нас, поляков, было трое: я, мой племянник Джек, и моя подруга Фифи. Мы с Фифи прибыли в Венгрию в далёком сентябре 1939-го года, когда мы бежали из нашей страны, и так мы здесь и остались, став так называемыми эмигрантами - в точности как сотни тысяч других поляков, рассеявшихся по всему миру после сентябрьской катастрофы. В течение последних пяти лет мы каким-то образом сумели остаться в живых. Мы были бы рады бежать и дальше, но мы никому и нигде были не нужны. Мы не принадлежали ни к какой партии, не были и, подобно половине наших соотечественников, «находящимися под угрозой истребления»; короче говоря, Департаменты эмиграции всех стран пришли к выводу, что Польша ничего не потеряет, если я и моя Фифи погибнем, и вот поэтому мы и оставались, словно выкинутые штормом на берег, в Венгрии. В течение тех пяти лет мы зарабатывали всем, что попадалось под руку, любыми видами труда - чтобы только держать душу в теле. И мы даже немного выучили венгерский.
Весной 1944-го я зашла так далеко, что вышла замуж за венгра, выпущенного из гестаповской тюрьмы. Поженившись, мы приехали жить к Тациту в Мору. Это было в июне. Фифи присоединилась к нам в июле в качестве компаньонки моей свекрови, а когда старая дама вскоре умерла, Фифи осталась жить во Вдовьем доме[2] с поварихой и горничной. Это был маленький дом, стоящий посреди прекрасного старого парка, на окраинах деревни. Усадьба стояла в начале деревни.
Осенью я получила письмо с неожиданным известием о том, что мой племянник бежал из Польши и был затем интернирован в лагерь для беглых поляков в сто тридцати милях от Моры, и находился под угрозой депортации в Германию. После многочисленных и сложных попыток моему мужу удалось добиться его освобождения и привезти его к нам. Вот так, по прихоти судьбы, все мы оказались в Море: Фифи, Джек и я.
...Мора лежит в двадцати милях к юго-западу от Будапешта и населена крестьянами, которых я не знала и насчет которых не была уверена ни в чем. Мы почти никогда не покидали парка, боясь, как бы наша речь не выдала нашей национальности и, в целом, не желая привлекать излишнего внимания к своему присутствию. Для поляков, мы и так уже имели слишком многое. Главой венгров и хозяином Моры был Тацит. Тацит – высокий, очень красивый мужчина с седеющей бородой, отпущенной специально на время войны. Он всегда одевался так, как если бы собрался на охоту. Мне нет нужды описывать его характер, так как он достаточно проявится на страницах этой книги. Теперь мы подошли к Мариетте, его жене. Она тоже высокая, очень стройная и красивая, аристократка в каждом дюйме своего тела. Ей около сорока пяти, но выглядит она моложе. У неё есть сын девятнадцати лет, Франци.
Франци шести футов ростом[3]; его одно-единственное стремление – чтоб его принимали за крестьянина. Путем упорных попыток он достиг своей цели, и даже обороты его речи - как у крестьян. Принимая во внимание породистость его родителей, это задача не могла быть легкой для выполнения. Однако, точно так же, как его мать – графиня в каждом дюйме своего тела, так и Франци сейчас – грубый мужик во всех своих повадках, во всём разговоре, даже в своих инстинктах и внешности. И он, и его мать всегда жили в тени Тацита, который, подобно настоящему Зевсу, управлял их миром и формировал – по крайней мере, на поверхности – все их мысли и поступки. (У Тацита еще есть дочь, но в то время она училась в школе в Швейцарии, и она - точная копия своей матери).
Мой муж, который из-за своего роста и полноты имеет прозвище Джамбо[4], хотя и крупный мужчина, но не силён, а недели, проведенные им в немецкой тюрьме, совсем подорвали его здоровье. Главной его чертой является сочетание в равной пропорции горячего нрава и терпеливости. Он хороший рассказчик и любит, чтобы его слушали.
...За последние дни фронт подходил всё ближе и ближе. Мы уже давно решили, что когда начнется стрельба, мы перейдем в винный погреб во фруктовом саду, примыкающем ко Вдовьему дому, и будем ждать там окончания самого худшего. Это был чистый и просторный винный погреб, десять на восемнадцать футов[7]. Он находился под каменной башней, одиноко стоявшей под сенью оливковых деревьев и сосен. К нему вели сводчатые ворота со стальной решеткой. Дальше было что-то наподобие открытого крыльца и массивная деревянная дверь, ведущая прямо на ступени. Внизу ступеней была еще одна деревянная дверь, а за ней – погреб. Несколько дней назад сюда были положены тринадцать соломенных тюфяков, покрытых персидскими коврами. В одном углу стоял книжный шкаф, нагруженный окороками, сосисками, консервами и джемами. В другом углу была полка со свечами и двумя керамическими кувшинами: один с керосином, другой с мёдом. Другой угол был занят одежными крючками, на которых уже висели меха Долли. Чемоданы служили сиденьями. Погреб выглядел роскошно, как могила Фараона, и детям не терпелось, чтобы им разрешили здесь спать.
...Газеты называли русских не иначе как «красными палачами» или «извращенцами», и местная радиостанция, управляемая немцами, без устали сообщала об ужасных преступлениях, творимых русскими в восточной части страны, которую те оккупировали уже достаточное время назад. Фабрика Джамбо была как раз на востоке. Её главный механик бежал оттуда в Мору с женой и тремя детьми. Хотя этот Мачик ничего особенного не видел, поскольку сумел вовремя скрыться, он слишком уж охотно описывал ужасы, должно быть, происходившие там. Вся прислуга слушала его с тем благоговением и восхищением, на которое способны лишь простаки, и его истории распространялись по деревне словно пожар. То, что из этих рассказов и радиосообщений было очевидно – что русские грабили, насиловали женщин, стаскивали с ног обувь, и убивали невинных без различия пола и возраста.
Мы не верили из всего этого ни одному слову. В своем кругу мы допускали вероятность, что могли быть отдельные случаи, когда русские солдаты напивались и насиловали нескольких попавшихся им под руку женщин, но в целом у нас было самое лучшее представление о Красной Армии. Тацит даже объявил, что устроит вечеринку для первого русского подразделения, которое войдет в Мору. Он заколет столько баранов, сколько понадобится для такого случая, обильно обеспечит русских едой, сеном и жильём – только бы они пришли, только бы они наконец освободили нас.
Мы с Фифи провели то лето, углубившись в изучение русского словаря, который мы нашли в старом письменном столе. Из него мы выучили русский алфавит, но увы – у нас не было русских книг, чтобы читать. Мы проводили часы напролет, переписывая слова и складывая их в предложения; мы даже беседовали по-русски, или, по крайней мере, так нам казалось. Мне было легче, потому что мои родители говорили по-русски так же свободно, как и по-польски, но познания в русском бедной Фифи ограничивались несколькими словами из «Очей чёрных» и «Дубинушки». Джек видел русских своими глазами в 1939 году во Львове, и мы донимали его вопросами, желая знать всё, что могло помочь нам составить представление об этой неизвестной нации.
Несмотря на горькие чувства по отношению к русским, которые столетиями рождались в душах поляков, мы были готовы «в принципе» встретить их с симпатией. Наша готовность принять русских со всей душой проистекала не из чего иного, как из нашей ненависти к немцам. Мы видели всё русское сквозь розовые очки, мы простили им все их ошибки, забыли о всех своих промахах. Все наши разговоры – не только наши с Фифи, но всех нас – вращались вокруг русских. Какие они? Представьте себе ежедневное ожидание прихода неизвестной, накатывающейся на тебя с Востока огромной армии. Вы бы тоже сгорали от любопытства.
...Между тем крестьяне, ведомые инстинктом векового опыта, были заняты тем, что прятали всё, что только могли: хлеб, бекон[8], одежду и даже целые телеги. Они не отрывались от своего занятия, чтобы побеспокоиться, как выглядят русские, их ничуть не волновала история. Для них война была войной, как наводнение – наводнением...
23 декабря.
Солнце взошло с трудом. Я тихо прошла к дверям, чтобы быстро выглянуть наружу. Деревня была пуста, ибо все крестьяне укрылись от стрельбы. Немцы тоже, видимо, где-то спрятались, поскольку не видно было ни одного. Мы тихо и терпеливо сидели в своем убежище, притворяясь, что ничего не происходит. Воздух в поврежденной подводной лодке, лежащей на дне океана, был бы немногим хуже, чем здесь. Около одиннадцати часов во Вдовий дом отправили Джека, чтобы разузнать о видах на обед. Матильда была на кухне и готовила, как будто ничего не случилось.
Спустя несколько часов Джамбо и Джек поднялись вверх по лестнице к дверям и осторожно их приоткрыли. Вокруг, несомненно, стреляли, и всё из стрелкового оружия. Но кто стрелял? И по кому? Фруктовый сад был пуст. Должно быть, стреляли из лисьих нор и из-за прямоугольных живых изгородей. Джек приоткрыл дверь чуть шире, и оба они осторожно вышли наружу - как двое мальчишек, играющих в краснокожих индейцев. Нам слышались крики, доносившиеся из сада, лежавшего внизу под склоном холма, на котором располагался погреб. Я подползла к дверям, за мной последовала Фифи. Джек повернулся к нам и быстро произнёс:
- Это русские.
- Уф-ф!
Мы отказались верить ему, но он прислушался снова и тотчас повернулся к нам с сияющим лицом.
- Я слышал их. Я чётко слышал крики: «Давай, давай!»
Но мы всё еще отказывались ему верить. Я даже немного отошла от дверей и заскучала, когда неожиданно послышался голос Джамбо:
- Сюда! Быстрей сюда!
Он не успел ничего добавить, а я уже была рядом с ним. Там, прямо перед нами, стояло два русских солдата. Они выглядели так, словно были вырезаны из нацистского плаката, вот только лица их были другими: широкими, искренними и растянутыми в детской, добродушной улыбке. Было около часа дня или, может, чуть позже. Итак, они пришли. Итак, они действительно существуют. Это – наши освободители, и двое из них стоят здесь, прямо перед нами.
- Мы – поляки! - закричали мы, и протянули навстречу им наши руки. А затем добавили, уже вполне серьёзно, - Здравствуйте.
Вот как они выглядели, наши первые два русских солдата: оба были в лохмотьях, одеты в ватную, непостижимо грязную форму и в длинные серые шинели цвета фасолевого супа. На одном из них был также накинутый поверх шинели кусок брезентового камуфляжа с крупными пятнами коричневого и зеленого цветов - вероятно, это был чехол от какого-нибудь немецкого оружия. На головах у них были остроконечные шапки из искусственного войлока с наушниками, связанными наверху веревкой. Один был молодой, смуглый, худой и вид имел довольно дурацкий; второй, с рыжими, выбритыми почти наголо, волосами, улыбался во весь рот, обнажая широкую щель между зубов. Какое-то время мы смотрели друг на друга в молчании. Затем я побежала вниз по ступеням, чтобы сообщить всем великую новость.
- Вина! - закричала я. - И хлеба. Быстро!
Без лишних вопросов в мои руки тотчас сунули бутылку красного вина, два-три стакана и буханку хлеба. Я бросилась из мрака подземелья назад, на свет дня. Двое русских не испарились в воздухе. Они стояли как прежде, на том же самом месте. Джамбо угощал их сигаретами, жал руки и объяснял на основных европейских языках, как он рад их видеть.
Солдаты выпили вино как будто с удовольствием, вылив последние несколько капель на землю, и вернули стаканы. И, странно сказать, мы понимали почти всё, что они говорят! Они спросили, нет ли в убежище под башней немцев. Мы рассмеялись:
- Нет, там только женщины и дети, пойдёмте, и вы сами увидите.
Но они не торопились идти вниз. Старший, тот что был рыжим, оказался весьма разговорчивым. Мы узнали, что грязный бродяга, стоящий перед нами, был на самом деле инженером-строителем, а его отец был знаменитым хирургом в Киеве, но в возрасте семидесяти двух лет его убили немцы. Мы верили каждому его слову и были восхищены общественным строем, при котором такой щербатый мужик, как он, мог получить университетское образование. После секундного раздумья наш новый друг вернул нам буханку хлеба, заверив нас, что у них в Красной армии хлеба достаточно и они не голодные. Мы дали им множество сигарет, мы были так рады их приходу. Во время разговора взгляд «инженера-строителя» упал на наши руки: у всех нас, как у любого нормального европейца, были наручные часы, а также обручальные и прочие кольца.
- Снимите свои часы и кольца и спрячьте их, - дал нам совет наш новый друг. - У русских на каждые десять хороших найдётся один плохой, и он всё у вас заберет, он отнимет у вас всё, поняли? Спрячьте всё это как следует.
Мы были тронуты тем, что он дал нам такой совет, и в то же время нас ужаснула такого рода искренность и отсутствие солидарности со своими.
- Спрячьте их, спрячьте их поскорее, - вновь повторил он.
- Почему всё ещё стреляют? - немного тревожно спросили мы .
- Это ничего, ерунда, - сказали они, неторопливо куря и постукивая по сигаретам своими маленькими пальцами, чтобы стряхнуть пепел. Под конец, однако, они тоже пришли к заключению, что момент - не самый подходящий для беседы и, наскоро попрощавшись, заспешили продолжить бой с немцами.
Какое-то время мы стояли и обменивались своими впечатлениями, как вдруг внизу около дома из кустов показался человек в высокой войлочной шапке, кожаной куртке и с револьвером. Он был точной копией политического комиссара с плакатов, вот только политкомиссары в России были уже отменены. Так кто же он? Комиссар? По виду он как будто сошёл с антисоветского плаката. Или, может, это член ОГПУ? Но этот орган тоже упразднен. Позади этой загадочной фигуры из кустов появились и направились к нам вверх по склону два солдата с автоматами в руках. При виде направленных на нас стволов мы машинально подняли руки вверх.
- Мы поляки! - прокричали мы снова, надеясь, что слово «поляки» окажет на этих русских такое же волшебное действие, как на первых двух.
Отвратительное существо в кожаной куртке подошло к нам ближе. У него были щёлочки-глаза, сломанный нос и лоснящееся желтоватое лицо.
- Немцы есть? Где? - спросил он, а потом, внимательнее рассмотрев нас, добавил на ломаном венгерском, - Мне нравятся драгоценные камни.
Эту фразу понял только Джамбо.
Нам захотелось как можно скорее избавиться от этого типа. Мы показали на деревню у подножия холма, уверяя, что там еще остались немцы, и троица удалилась. С облегчением вздохнув, мы снова начали удивляться. Удивительного было много. К настоящему моменту мы встретили всего две группы русских. В первой нам сказали спрятать наши драгоценности, а во второй уже знали, как требовать драгоценности на местном языке. Неужели весь Советский Союз полон таких противоречий? Прав ли Джамбо, утверждая, что русский характер настолько гибок и многолик, что величайшие противоположности уживаются у них не только среди разных групп, но и внутри одной и той же личности? Посмотрим. Между тем, вместо следующей группы русских мы увидели лишь Матильду, а позади неё - напуганное лицо маленькой Джизеллы. Мы также услышали русские голоса рядом с Вдовьим домом. Я быстро сбежала вниз по ступеням сада и вошла на кухню.
Все двери были распахнуты. Толпа странных фигур в длинных рваных шинелях цвета фасолевого супа слонялась по холодным пустым комнатам, заглядывая в каждый угол и переворачивая всё вверх дном. Я прошла в комнату Джека. Там, среди разбросанных сигаретных пачек и старых фотографий стоял офицер. Он держал в руках стремена Джека. Изящные, тонкие стремена от английского седла. Он задал мне несколько вопросов. Я объяснила, что деревня лежит у подножия холма; продолжая разговор, мы вышли через парадное на террасу. Казалось, офицер чувствовал, что должен найти для меня какое-то объяснение толпе грабящих дом солдат.
- Вы должны находится в доме, - сказал он, – и никуда не уходить. Если бы вы были дома, они бы ничего не тронули, ничего бы не пропало.
Говоря это, он вертел в руках стремена Джека, блекло блестевшие в лучах заходящего солнца. Не сказав больше ни слова, он резко удалился. Я смотрела вслед на его длинную, хорошо скроенную шинель. На ходу он махал рукой, в которой были зажаты стремена, и они звякали при каждом его движении. Я вздохнула и вернулась в дом. Нелегко будет понять эту новую Россию, думала я.
Дом был полон русскими. Солдаты в грязных ватниках обшаривали все выдвижные ящики. Джамбо вдруг подумал, что они, вероятно, стащили его ботинки. Он побежал проверять и, к своему великому изумлению, нашел гардеробную пустой. В его комнате всё было перевернуто вверх дном, все ящики выдвинуты, шкафы распахнуты. Табун солдат из шести или восьми человек всё крутился и крутился по всем комнатам, заглядывая в каждый угол.
- Чего вы ищете? - спросила я.
- Яблоки.
Кажется, они меня даже не замечали. Во всяком случае, мое присутствие не смутило их в их поисках. Я должна здесь, однако, признать, что была одета достаточно странно: тёмно-синие лыжные брюки, заправленные в зимние охотничьи ботинки серого фетра, и измученная войной куртка лесоруба. Я собиралась одеваться так в течение нескольких следующих месяцев, чтобы та небольшая часть Красной армии, что пройдет через Мору, никогда не забыла моего вида. Я бы хотела дать этим людям яблок, но их просто не было.
Один из солдат, с щербатым ртом и непослушной прядью каштановых волос, которая никак не хотела оставаться у него под шапкой, заговорил со мной. Остальные звали его «наш капитан», но по мне, так он выглядел точно так же, как все остальные солдаты. На самом деле он оказался лейтенантом, но тогда мы еще не знали ни русских званий, ни русской тяги повышать себя на пару рангов.
«Капитан» Иван уселся на мраморный стол эпохи Луи XVI, а его товарищи – в стоящие вокруг глубокие кресла и на диван, который, казалось, задохнулся под их весом. «Подождите», - сказала я, - «я принесу вам поесть». Будучи рады встретить в этом заграничном краю кого-нибудь, с кем можно поговорить, они как следует расположились в креслах и на диване. Я принесла им на тарелке хлеба и сосисок. Они потребовали стаканы.
- Ты пьёшь спирт, Лида?
Я сказала им, что меня зовут Лида, потому что это имя звучит по-русски и им легко запомнить его. Я взяла себе это имя на весь период русской оккупации.
- Да, если он есть, - ответила я, и на стол был поставлен полный спирта графин. В деревне внизу всё еще продолжался бой с немцами.
Джамбо наблюдал, как солдаты наполняют стаканы чистым спиртом, не разбавляя его водой, со всем ужасом истинного западного человека в глазах. Мы выпили по стакану, закусив немного хлебом и сосисками. И вновь водка начала проявлять своё волшебство. Наш разговор становился всё громче и громче, и всё живее. Солдатские шапки начали с изумительной скоростью передвигаться по их головам: от правого уха к левому, от бровей на затылок. Надобно знать, что шапка русского солдата - далеко не только головной убор. Если мне приходилось иметь дело с молчаливым русским, то я могла отгадать его самые сокровенные чувства просто по движениям шапки...
Я была просто очарована нашими гостями. Джамбо глядел на этих щербатых, оборванных, пахнущих чесноком парней с некоторым удивлением. Ему тоже предложили спирта, но он вежливо объяснил, что болен, и что ему запрещено пить чистый алкоголь. Он попросил меня, чтобы я тоже не пила спирт, что привело русских в ярость: «Что! Сам не пьёт, и для женщины стакана жалко!» Так что я выпила. Неожиданно «капитан» Иван вспомнил, что деревня, вероятно, еще не взята, что неплохо бы поискать место для постоя и в целом, до прекращения боевых действий еще далеко. Он встал, а с ним и его солдаты, и они, обещав вернуться ночью, ушли.
Я вышла на террасу, ибо воздух в комнате был тяжелым от запаха. Этот запах нам еще предстояло очень хорошо узнать, поскольку затем он преследовал нас несколько месяцев.
По дорожке, ведущей от ворот, шла группа мужчин. Все они были офицерами высоких рангов, одетые в великолепные шинели, с высокими казацкими шапками на головах, с плоскими кожаными планшетами и компасами в руках – они выглядели так, будто собрались на парад. Все были чистые и тщательно выбритые, и шли ровными, неторопливыми шагами прямо к террасе. А на террасе стояла я, одна-одинёшенька.
Первым ко мне подошел казацкий полковник в черной войлочной накидке до лодыжек. Мы довольно формально пожали друг другу руки и поздоровались, в то время как остальные обступили нас с разных сторон. Типы их лиц были совершенно те же, что и у солдат; не было ни одного лица хотя бы с намеком на то, что мы в Европе называем породой. Все были среднего роста или коротышки. Никто из них не говорил ни на одном иностранном языке: они не могли даже связать пару слов по-немецки. Мы начали разговор о постое. От имени хозяина дома я предложила для их подразделений, занявших нашу деревню, несколько баранов, но полковник довольно резко и грубо ответил, что в Красной армии нет голода, и она не нуждается в чьих-либо баранах.
- Мы не немцы, - рявкнул он, - у нас полно еды.
- Прошу вашего прощения, - запнулась я от смущения, - Я думала, - снова запнулась я, прочесывая свою память в поисках тех пятидесяти русских слов, которые я должна была знать, но которые, конечно же, испарились в этот момент из моей головы. - Я думала, может быть, вы примете наших баранов – хозяин – и все мы – вся эта семья – мы так рады, что вы пришли, мы хотим как-то отпраздновать это.
- Ну-ну, всё нормально, - вмешался добрый майор. – Приберегите ваших баранов, они вам еще пригодятся. Они еще будут кстати.
- Здесь есть хорошие места для постоя?
- Я сейчас же отведу вас. Внизу есть большой дом, наш дом. Если стрельба прекратилась, мы можем пойти туда прямо сейчас. Он пустой. Располагайтесь там.
Я начала показывать им путь по деревне. Тут ко мне присоединились Джамбо и Джек. В кругу офицеров мы пошли вниз к деревне, которая кишела русскими лошадьми, телегами и солдатами. Мы вошли в большой двор. Мы увидели, что в доме управляющего уже были офицеры. Мы вошли внутрь и оставили там группу лейтенантов и капитанов. Затем «высшие чины» со мною во главе проследовали через парк к Усадьбе. Им понравился парк; они спросили, не сад ли это. Я ответила утвердительно. Мы проходили мимо елей. «Такие же, как наши», - остановившись, заметил полковник и, улыбнувшись, погладил выступающую ветвь. Другие тоже остановились и стали смотреть на ели, как будто не понимая, как те могли попасть в этот искусственный сад.
У полковника были ряды металлических зубов. Я заметила, что у большинства русских было по несколько зубов серебристого цвета, или же в их ртах зияли большие пустоты. У некоторых, как у полковника, из металла были сделаны все зубы, и среди них лишь еле виднелись один-два настоящих. Видеть это было неприятно. Очевидно, в России было мало зубных врачей. Наши праотцы тоже ходили без зубов и, должно быть, выглядели как нынешние русские. Однако в России, казалось, никто не обращает на это внимания. Наоборот, как мы впоследствии узнали, передние зубы из золота или даже серебра считаются украшением и доказательством богатства владельца.
Мы подошли к усадьбе. Во дворе стояли две машины – Тацита и наша, а на них, словно муравьи на теле мёртвого жука, копошились солдаты. Весь двор был полон лошадьми, телегами, соломой и русскими. Всё это очень напоминало муравьиную кучу: эти сотни фигур, бегающих туда и сюда, таскающих свертки, сено, мешки с фуражом и тюки в Усадьбу и из неё; в траве уже были протоптаны тропы, ведущие во всех возможных направлениях. «Где находится конюшня?» - спросили мои офицеры. Я повела их к конюшне. Там уже тоже кипела деятельность. Темнело, и солдаты спешили поудобнее устроиться на ночь.
Я заметила старшего офицера, подошла к нему и стала просить, чтобы они не трогали нашу машину. Я сказала, что она принадлежит моему шурину, что у нее дипломатические номера, и что даже немцы не трогали такие машины.
- Где вы научились говорить по-русски? - удивленно спросил офицер.
- Я полька. Мы с мужем бежали из Будапешта, потому что нас разыскивало гестапо. Мой муж был несколько месяцев в тюрьме; они даже отправляли его в Вену.
Офицер выслушал меня.
- Хорошо, хорошо, я скажу им, что это ваша машина и чтобы они её не трогали, - сказал он.
Довольная, я стала осматриваться в поисках моего казацкого полковника. Он был выше других, и его высокая шапка выделялась чёрным пятном на зеленоватом фоне его компаньонов. Я сразу же нашла его в толпе.
- Товарищ, - крикнула я, потянув его за рукав. – Товарищ полковник, на сколько персон нам накрывать стол?
- Не мешай, - пробормотал полковник, занятый разговором.
- Почему бы вам не прийти? - спросила я, дергая его за рукав. – Просто скажите мне, сколько будет офицеров.
- Восемь, - ответил голос позади меня.
Сквозь сумерки я побежала назад в усадьбу, встретив по пути Джека и Джамбо. Вместе, проталкиваясь сквозь солдат, которые, казалось, даже не замечали нас, мы вошли в холл. Он был настолько заполнен толпой, что мы с трудом протиснулись внутрь.
С огромным трудом мы проложили путь в мою комнату. Там мы обнаружили коктейль-вечеринку в худшем её варианте. На обеих наших кроватях лежали солдаты. Еще один был занят тем, что вытряхивал всё из ящиков моего туалетного столика на пол, другой методично и умело разбирал на части наш радиоприёмник. На двух принесённых Бог знает откуда садовых шезлонгах сидели две русские девушки. Они были в скромных маленьких гражданских пальто, казацких шапках, а их лица напоминали типажи крестьянок из отдалённейших частей Восточной Польши. Другие солдаты стояли у окна и чистили свои автоматы, заслоняя остатки дневного света. Несколько других осматривали наши одежные шкафы. Каждый из выдвижных ящиков был уже на полу, заваленном бутылками с лекарством, обувью, ватой и зубной пастой Джамбо - всё вымочено в его жидкости для полоскания рта. Его пояса, чулки и мальтийские ордена - Джамбо был Рыцарем Мальты[9] - всё было покрыто пудрой, как покрывают сахарной пудрой пирожное, чтобы оно красивее выглядело. Еще несколько ничем не занятых солдат, небрежно прислонясь к мебели, вели живой разговор с девушками.
Я поприветствовала наших гостей. Две женщины принужденно пожали мне руку и враждебно уставились на меня в моем странном костюме. Возможно, они думали, что заправленные в фетровые ботинки лыжные брюки – это последний писк моды, который еще не успел дойти до Советского Союза. Я спросила у них, как дела; сообщила им, что это моя комната, и сказала, как я рада их приходу. Мужчины шутливо ухмыльнулись, но женщины пребывали в смятённом молчании. Они не поверили ни единому моему слову.
«Я просто пришла за книгой», - объявила я, и торжественно взяла с полки биографию Карла Маркса. На обложке была резьба по дереву, изображающая Отца революции. Я повернула книгу таким образом, чтобы все могли видеть, кто изображен на обложке. Но, казалось, никто не впечатлился. В тот момент я этого не поняла, но сейчас-то я знаю, что в комнате тогда не было ни одного солдата, который имел хотя бы приблизительное понятие о том, как выглядел Маркс. И даже если они имели, они не узнали бы Маркса в стилизованной резьбе по дереву. Для большинства русских солдат такая резьба по дереву - всё равно что фотография для собаки: просто нечто чёрно-белое. На большинство из них также не производят впечатления рисунки карандашом, то же самое и с гравюрами. Хотя, их привлекают цвета: например, их всех интересует живопись. Итак, мы фактически были вынуждены заключить, что большинство из них видят Маркса первый раз в жизни.
Кроме моего Маркса, я хотела также забрать и Чан Со Линя (фарфоровая игрушка, подарок мужа - М.С.), но его больше не было на комоде. Он исчез. Я пошла в гостиную. Там, за столом, на стульях и в креслах развалилась орава русских. Комната была полна ими. Сквозь открытую дверь в кабинет Тацита виднелись солдаты, стоящие там по колено в документах и бумагах. Все были очень заняты. Их главным занятием, как это сразу обнаружилось, был демонтаж вещей. Некоторые разбирали спортивные ружья Франци и Тацита, другие демонтировали радиолу в гостиной, прочие рассоединяли на части часы и барометр. Вот они, еще черные от дыма сражения, еще запыхавшиеся от усилий, и уже сидящие и занятые демонтажом всего, что может быть разобрано на части.
Я попыталась протолкаться назад в свою комнату. Никто не обращал на меня ни малейшего внимания. Мне казалось, что я вижу всё это во сне, что либо они – призраки, либо я – невидимка. Я стояла, рассматривая их. Меня пихали и толкали, так как они просто ходили куда хотели, даже не оглядываясь вокруг себя. Я вошла в холл. Вдруг меня остановил офицер в остроконечной жёлтой шапке. Он хотел знать, чего я тут ищу.
- Ничего, - ответила я, - это наш дом.
Бесполезно было объяснять, что я пришла заказать ужин для офицеров, ибо в таких условиях невозможно было даже думать об ужине. Офицер в желтой шапке, казалось, заинтересовался мной. Вместе мы прошли в мою комнату, где я нашла ошеломленных Джамбо и Джека. Настала ночь и комната была в полной темноте. Произнеся несколько слов, офицер выгнал из комнаты солдат, сдвинул поближе кресла и мы, вчетвером, уселись в них для беседы. Наконец-то среди этого бедлама мы нашли хоть одного разумного человека, подумали мы, и начали изливать ему свои души. И лишь Джек, помнящий Львов и 1939 год, был настороже.
Джамбо говорил, а я переводила. Он рассказал офицеру о себе всё, включая и то, что он является Рыцарем Мальты. Неожиданно офицер спросил, бывала ли я в Англии.
- Конечно, - радостно ответила я.
- Зачем?
- Я ездила туда учиться.
- А в Германии вы были?
- Да.
- И на Мальте тоже?
Я там бывала - очаровательный остров. И я начала описывать, насколько могла это сделать на русском, все прелести Мальты, поскольку в темной комнате мне было не видно выражение лица офицера.
- А где вы бывали еще? - спросил офицер спокойным, приятным голосом.
- Где еще? В Италии, в Турции, Бельгии, Греции, - наугад ответила я, стараясь припомнить все свои путешествия.
Офицер также хотел знать, какими мы владеем языками. Оказалось, что говорить на английском, французском и немецком, не считая своего родного языка – это в Советской России что-то вроде преступления. В темноте мы не могли видеть выражения лица офицера, но мы отчётливо слышали каждое его слово, когда он медленно прошипел:
- Да вы просто международные шпионы.
Мы расхохотались над этой идеей. Наш смех, должно быть, звучал искренне, поскольку офицер извинился за только что сказанные слова.
- Я – представитель смерти[10], - добавил он.
И тут по нашим спинам прошла дрожь. Что он имел в виду? Возможно, эта была вовсе не дружеская беседа, а допрос? В первый раз после контакта с русскими я почувствовала страх. Что всё это значило? Джамбо еще не совсем понял, что произошло, но Джек уже тревожно зашевелился в своем кресле. Я быстро встала, чтобы попрощаться. Офицер тоже встал. Наше прощание было бурным, но неискренним. Мы с Джеком были уверены, что почувствовали запах серы.
Теперь я попыталась пройти на кухню, чтобы распорядиться о том несчастном ужине, идею которого я, будучи наивной европейкой, так еще и не оставила. Мы на Западе живем согласно некоторым правилам поведения: стараемся держать своё слово, быть пунктуальными, давать обещанное - даже если это бывает трудно исполнить. Это - незыблемые деловые принципы, без которых невозможен сам порядок вещей. А посему я отправилась на кухню.
И снова толпы солдат. «Ну ладно, не станут же они ломать мебель или красть картины», - сказал мне Джамбо. Мы пытались успокоить себя. Но зачем же они устроили сюда такое нашествие? Ведь в деревне наверняка достаточно места? Где будут кушать офицеры? На чем они будут спать? Все кровати были полны солдатами: они курили свёрнутые из кусков газет папиросы и плевались на пол шелухой от семечек подсолнуха. Всюду было столько грязи, что под нею не видно было и признаков нашего паркетного пола.
Было довольно темно, и только тут и там горели огрызки свечей или чадящие и воняющие без своих стеклянных колпаков керосиновые лампы. Никто не закрывал входные двери и по комнатам гулял ветер. А солдаты всё продолжали прибывать. Надежд привести в порядок до ужина хоть одно место в доме не было. Где они собираются размещать свой штаб? Где угодно, только не здесь и не сейчас. Чем ближе мы подходили к кухне, тем с большим трудом нам приходилось прокладывать себе путь. Рядом с кухней, в дворецкой, какие-то солдаты были заняты тем, что вынимали из комода кипы нашего белоснежно-белого белья и куда-то их уносили. Но куда? И зачем? Могло ли быть такое, что они просто грабили наш дом? Зачем солдатам могли понадобиться на фронте наволочки, простыни, салфетки, кухонные и дамасские полотенца? [11] Они прошли через столько стран, что могли бы уже и обзавестись к настоящему моменту полотенцами и салфетками. И куда они тащат эти кучи и кипы? Нет, решительно, мы должны пойти, разыскать «наших» офицеров и рассказать им, что происходит. В таких условиях невозможно организовать постой или приготовить ужин.
Наконец мне удалось добраться до кухни. Наша повариха, не решаясь раскрыть рта, просто молча в ужасе смотрела на меня. Выражение омерзения в её маленьких глазах говорило о том, что для неё конец света уже настал. Старая Лина, горничная матери Мариетты, беспомощно стояла посреди кухни, безропотно позволяя толкущейся солдатне пихать себя то туда, то сюда. Судя по её округлившимся и выпученным карим глазам, можно было подумать, что она находится в состоянии транса. Совершенно не понимая, что происходит, она просто махнула на всё рукой. Остальные слуги сбежали.
Я объяснила поварихе, не совсем веря собственным словам, что она должна приготовить хороший ужин на восьмерых офицеров. Я говорила энергичным и само собой разумеющимся тоном, чтобы убедить не только её, но и себя. Затем я набросилась на солдата, огромного оборванца, который оказался сержантом - я хотела знать, где полковник. «В последней комнате слева», - одновременно ответило несколько голосов. Последняя слева? Ага, это комната Элси; и снова я прокладывала свой путь через лес мокрых, вонючих солдатских шинелей. Наконец я добралась до дверей. На мой стук отозвался резкий голос, и я вошла внутрь. Комната была в неописуемом беспорядке, полна табачного дыма, повсюду разбросана мебель, а за столом с бутылкой водки в руке сидел офицер с красным опухшим лицом и расстегнутым воротничком. На столе перед ним стоял ужин, а на комоде красного дерева мерцала закопченая лампа с разбитым абажуром.
«Ну?» - произнес офицер, когда его выпученные, пьяные, голубые глаза остановились на мне.
Я начала свою тщательно подготовленную, но небольшую речь: заказан ужин на восьмерых офицеров; я хочу накрыть его в столовой, поэтому нельзя ли убрать оттуда, а также из кухни, солдат, поскольку пока они там толпятся, мы, вероятно, не сможем начать.
«А-а?!» - закричал офицер - теперь его глаза почти вылезли из орбит. – «Что? ! Я - генерал! Вон! Поняла? Генерал!»
Я вышла вон, и я всё поняла. Я поняла, что ужина не будет: что нет нужды держать свое слово, и что всё это - начало нашей новой жизни. Хорошо, что немцы не сожгли дом, и что мы сохранили нашу мебель и машину. По крайней мере, нам удалось хоть это.
В коридоре я встретила честного сержанта-оборванца.
«Ну», - спросил он, - «все в порядке? Всё уладила?»
«Нет», - ответила я, - «генерал сказал, что ужина не будет».
«Кто сказал?» - спросило одновременно несколько голосов, после чего последовал взрыв хохота. - «Какой генерал? Здесь нет никакого генерала!».
Но у меня уже не было желания слушать. Генерал это или нет, мне было уже всё равно. Моим единственным желанием было выбраться из этой чуждой толпы и вернуться к своей собственной жизни, к нашему тихому и мирному пристанищу в винном погребе.
Что ж, на войне как на войне. Во всяком случае, немцы были неправы, когда говорили, что русские всё уничтожают. Хотя они находятся во вражеской стране, но они не ломают мебель, и на следующий день, или еще через день, мы сможем навести в доме порядок. Мы возьмем для уборки дюжину женщин из деревни, и тогда мы снова сможем жить в своём доме. Мы также не должны забывать, что среди них есть много и приятных, приличных парней. Например, это наш первый русский, инженер; затем, этот Иван с его людьми, и потом - тот офицер в высокой казацкой шапке, хотя насчет него всё было не совсем чисто. Вот такой мы вели разговор, шагая через парк к нашему убежищу.
Было очень темно. Тщательно осмотревшись по сторонам и убедившись, что нас никто не услышит, Джек начал выговаривать мне.
- Как ты могла сказать, что бывала за границей? Нельзя говорить такое ни одному большевику, потому что в их глазах это - преступление.
- Что? - воскликнула я. – Учиться за границей – преступление? Но они сами посылают своих инженеров учиться в Соединённые Штаты!
- Это не имеет значения, - объяснил Джек. – Таких мало и они – лишь незначительная частичка нации. В России ты даже не можешь получать письма из-за границы без того, чтобы тобой не заинтересовалось НКВД. Я забыл предупредить тебя обо всём этом, - добавил он.
- Раньше, может, и было что-то вроде этого, но уж точно не сейчас. Невозможно вот так держать в цепях двести миллионов человек, - сказала я.
- А они могут, - упорствовал Джек.
- Хорошо, - сказала я, - и что теперь? Этот «представитель смерти», он что – из НКВД?
Джамбо попросил перевести для него наш разговор на любой понятный ему язык, и я повторила всё на французском. На Джамбо всё это не произвело никакого впечатления.
«Я не делал ничего плохого», - сказал он. – «В конце концов, мы же рассказали ему, что мой брат был политическим беженцем, что он лично знает многих советских политиков, а сейчас подружился в Лондоне с Майским[12]; что он был нашим посланником в Ватикане, пока прогерманская клика не вытеснила его из МИДа».
«Дипломаты», - продолжал Джамбо покровительственным тоном, - «одинаковы по всему миру, и я не вижу никакого вреда в том, что рассказал тому хорошему офицеру, сколько раз навещал своего брата за границей. Наоборот, это могло произвести на него только самое выгодное впечатление».
23-25 декабря
Мы услышали шаги снаружи. Кто-то спускался по ступеням в наше убежище. Дверь отворилась, и на фоне сумерков в дверном проёме показалось две фигуры. Это был мой Иван, уже полностью пьяный, и неизвестный лейтенант. На последнем была даже чистая рубаха, а на его широкой груди позвякивало несколько медалей. Мы пригласили обоих сесть и угостили вином. Друг Ивана был артиллеристом. Он сообщил нам, что его зовут Виктор, и что его мать – венгерка из Кечкемета[13]; последнее, очевидно, должно было нас впечатлить. Венгры покивали головами в молчаливом признании факта. Виктор также поведал, что разговаривает на всех языках, но скромность принуждает его ограничиться только своим родным - русским. Мы также узнали, что на самом деле он был не лейтенантом, как это можно было подумать, а капитаном. Капитан, как мы поняли, было самое популярное звание в Советской армии. Каждый был капитаном и казалось, что каких-либо младших офицеров или более низких званий в Красной армии попросту не существует.
Виктор кричал и шепелявил. Он сразу же приступил к длинному рассказу о своей жизни, который он прерывал только тогда, когда дело касалось его ранения. Каждый раз, когда всплывало его ранение, Виктор хватал руку ближайшего к нему слушателя и заставлял его нащупать под своим подбородком, на нижней челюсти, шрам. В свете лампы, когда он шепелявил, нам виднелась брызгающая у него изо рта слюна, и светлые соломенного цвета волосы, падающие на его голубые лягушачьи глаза. Он набрызгался дешёвым одеколоном, и скоро эта вонь распространилась по всему погребу. Закончив свою речь и рассказав нам всю историю своей жизни, Виктор встал и вышел на улицу.
Теперь настало время переключить внимание на Ивана, который с упрямством пьяного спокойно, но решительно настаивал, чтобы мы положили его спать в погребе. Мы ему были симпатичны, и он хотел спать с нами. Как избавиться от героя-завоевателя? Вы не можете просто взять и выкинуть его вон. Мы с Джеком предложили ему прогуляться по парку: свежий воздух, восхитительная луна. Иван позволил себя уговорить. На улице было действительно свежо и очень морозно. Над голыми ветками деревьев поднялась Луна, и весь сад был залит её светом. Иван откинул непослушную прядь волос со своего лба. Улыбка не покидала его толстые губы, и щель между его зубов зияла в темноте его рта ещё более чёрной дырой.
«Лида», - сказал он, - «не обращай внимания на своего мужа, пойдём спать со мной. Твой муж старый и больной, он даже будет рад. Пойдем, пойдем, я должен сказать тебе кое-что очень важное».
Джек был на страже и тут же попытался оттащить Ивана в сторону - я буквально физически ощутила его гнев. Иван, однако, довольно нетвёрдым движением просто мягко и беспечно оттолкнул его.
«Я хочу спать с вами в погребе», - жалобно сказал Иван. – «А ты», - неожиданно закричал он на Джека, - «иди отсюда, мальчишка! Не лезь к нам. Ты мешаешь, страшно мешаешь. Это не твое дело, что делает твоя тётя. Я не сделаю ей ничего плохого, здесь тепло, так что иди отсюда, дорогой, иди в погреб. Ты здесь ни к чему».
Джек не тронулся с места.
- Иван, - сказала я, - ступай спать во Вдовий дом, там тебе будет удобно, гораздо лучше, чем в погребе.
- Нет, - медленно ответил Иван, - я не хочу там спать. Я буду спать с тобой. Мне нравится быть с тобой. Я люблю вас, всю вашу семью!
Умоляя Джека как-нибудь убрать Ивана во Вдовий дом, я скрылась в погребе. После Джек рассказал нам, что артиллеристы, занявшие Вдовий дом, выкинули оттуда Ивана на улицу, как собаку. После этого он вернулся в сад, где его и нашли его солдаты. Ему повезло, что он нравился своим солдатам, и о нём не забыли. Мы с облегчением вздохнули.
Когда принесли ужин, это показалось маленьким чудом. Мы торопливо поели, радостные, что избавились от русских, но опустошенные всеми событиями и впечатлениями дня. Я выпила немного вина и устроилась было на своем соломенном тюфяке, чтобы выкурить сигарету, когда на ступенях снова раздались шаги. Ворвался Джек. «За тобой пришел брат управляющего имением», - сообщил он с порога, - «Ты должна идти к каким-то русским, которые остановились в его доме - им нужен переводчик».
«Очень хорошо», - сказала я и, не попрощавшись, быстро вышла на улицу, где меня ждал брат управляющего.
«Что такое?» - спросила я, но так и не смогла извлечь какой-либо смысл из всего, что он мне наговорил. Мы быстро пошли по деревне, минуя изгороди и проходя мимо небольших групп солдат, которые всё еще были заняты тем или иным делом, и наконец вошли в маленькую комнату, в которой вокруг печки сидело трое русских. На столе ярко горела керосиновая лампа. В этой маленькой комнате было уютно и тепло. Мне сказали сесть. Офицер в сдвинутой набок шапке уселся напротив меня, в то время как другой, в фуражке, тоже придвинул ближе ко мне свой стул.
- Как тебя зовут? - спросили они, и я ответила: Лида.
- Хорошо, Лида, расскажи нам, как долго ты живешь в деревне.
Я постаралась рассказать нашу историю так тщательно и подробно, насколько могла. Тем не менее, молодой офицер в фуражке все время перебивал меня, повторяя ленивым голосом, что я вру. В ответ на это я пожимала плечами и улыбалась, пытаясь выразить этим что-то вроде терпеливого снисхождения. Но мне было страшно.
- Почему в 1939 году ты не бежала в Советский Союз? Так должен был поступать каждый наш союзник.
- Но Россия была тогда в союзе с немцами, а от них-то я и бежала.
- Мы никогда не были союзником немцев, - сказал офицер. – Это всем известно, и каждый приличный поляк бежал в Россию, даже до 1939 года, потому что Россия никогда не была в союзе с Германией.
Я ответила, что судя по тогдашним газетам, и даже по передачам Московского радио, я бы так не сказала. И кажется, я помню, как в августе 1939 года Молотов принимал Риббентропа, а Криппс[14] был отправлен назад в Англию - хотя он смотрел на мир сквозь розовые или, скорее, красные очки, в то время как Риббентроп был министром фашистской страны.
Офицер в фуражке сделал попытку остановить поток моей речи, ибо эта тема разговора ему не нравилась и он хотел быстро её сменить. Он признал, что, конечно, трудно было ожидать от меня в 1939 году, чтобы я предвидела войну России с Германией, а затем, чтобы поменять тему разговора, спросил меня, кого из фашистов я знаю в Море. Я не знала ни одного и начала объяснять, что не разговариваю на местном языке и не общалась с деревенскими, поскольку, будучи полькой, мне приходилось быть очень осторожной - но мальчик-офицер снова перебил меня, заявив, что я вру. Я была до предела возмущена его постоянным: «Ты врешь, ты врешь!». Было очевидно, что они не хотят мне верить, и я ничего не могла с этим поделать.
Офицера в фуражке позвали, и он вышел из комнаты. Наступило молчание. Мне было по-настоящему страшно, и я крепко сцепила свои руки, чтобы русские не заметили, как они дрожат. Время шло. Мои глаза блуждали по комнате, но я была далека от того легкого и беспечного состояния, с каким в неё вошла. Третий офицер, пожилой человек с красивым смуглым лицом, в фуражке и серой шинели, дремал у печки. Тут дверь открылась, и теперь позвали и меня.
Меня отвели в комнату, где я обнаружила управляющего имением, его жену, и нескольких пьяных офицеров. Я потребовалась в качестве переводчика, поскольку русские хотели переставить мебель в каждой комнате дома, а молодая жена управляющего сопротивлялась этому как могла. Однако, ничего нельзя было поделать. Офицеры настаивали, и мы начали бессмысленную работу по перестановке мебели согласно русскому вкусу, таская её из одной комнаты в другую, и часто снова назад, на прежнее место - только для того, чтобы затем переставить её еще один раз. Затем меня снова вызвали к моему мучителю.
Теперь на столе перед ним лежали бумага и ручка, а офицер, дремавший у печки, проснулся и начал принимать участие в допросе, порой даже и сам задавая вопросы. Мои ответы не записывались. И вновь они хотели знать, кто был фашистом в деревне. До этого я всегда думала, что слово «фашисты» применяется только к итальянским последователям Муссолини, но для русских фашистами были все: немцы, испанцы генерала Франко, французские коллаборционисты, Польское правительство в Лондоне[15], Черчилль и крестьяне Моры. Я защищала этих бедных крестьян как могла. Я рассказала, как в ноябре прошлого года полиция по приказу немцев забрала в Море четверых коммунистов, и как мой муж дал деньги их семьям, которые неожиданно лишились своих кормильцев.
«Ты врёшь», - снова произнес молодой офицер, но в этот раз я была слишком измотанная и сонная, чтобы даже пожать плечами.
Почему никто не придет мне на помощь, удивлялась я. Они что, воображают, что я здесь развлекаюсь? И тут же вторая мысль: как хорошо, что Джамбо не говорит ни слова по-русски, и его не впустит сюда ни один часовой.
Маленький офицер в фуражке, кажется, устал: допрос приостановился, и я начала вежливый разговор, пытаясь улучшить атмосферу происходящего. Сначала я спросила маленькую свинью, из какого он города. «Из Москвы», - ответил тот, щуря свои наглые глазки. У него был маленький и вздернутый вверх нос-кнопка, так что видны были только ноздри, а также толстые пухлые губы.
- Москва – прекрасный город, но ты никогда его не увидишь. Таких вруний, как ты, туда не пускают. Если ты не скажешь нам правду, то мы тебя отправим в Сибирь. Нам хочется спать, а ты всё врешь и врешь, и ничего от тебя не добиться.
У дверей вдруг возник шум и я услышала голос Джека. От этого ко мне сразу вернулась вся моя энергия. Я должна была не допустить, чтобы в это дело был вовлечен и Джек. Я уже поняла, что имею дело с НКВД, но Джек этого еще не знал - и вот он был здесь, в дверях, а его лицо сияло как у собаки, которая должна была сидеть дома, но убежала в поисках своего хозяина, и теперь была страшно горда, что нашла его. Джек вежливо поинтересовался, готова ли его тётя, чтобы сейчас же идти домой? Я сделала ему знак рукой - уходи. К счастью, офицеры вытолкали его за дверь, а я крикнула ему вслед, чтобы он шел домой. Дверь закрылась, и я снова осталась наедине с тремя офицерами. Они начали задавать вопросы о Будапеште. Я рассказывала им всё, что знаю, постоянно объясняя, что меня не волнует политика: во-первых, потому что она не имеет ко мне отношения, во-вторых, потому что я иностранка и не знаю ни страны, ни языка.
- В любом случае, Лида, у тебя нет недостатка в воображении, - саркастически произнесла маленькая каналья в фуражке. – Мы только что сюда прибыли, но мы уже знаем, кто здесь хорошие люди, а кто – нет, мы уже всё знаем, и мы задаем тебе эти вопросы только для того, чтобы посмотреть, долго ли ты ещё будешь врать.
- Хорошо, - ответила я, - вам легко - вы специалисты, но я просто глупая женщина, и ничего не знаю.
- Ты знаешь, Лида, ты всё знаешь, просто не хочешь нам говорить. Смотри, а не то ты закончишь в Сибири.
- Хорошо. Отправьте меня туда. Прямо сейчас, если хотите.
Снова молчание. Становилось поздно. Я настолько устала, что с трудом держала открытыми глаза. Пожилой офицер у печки начал тихонько постанывать. Оказалось, у него желчный приступ, а также разболевшаяся рана. Я ухватилась за его желчную болезнь как утопающий за соломинку, и начала светский разговор о проблемах пищеварения. Я дала ему несколько диетических советов, и атмосфера беседы значительно улучшилась. Все четверо её участников настолько устали, что почти валились со стульев. Разговор зачах и стих. После некоторого молчания я собралась с духом и спросила, могу ли я идти домой. Я с трудом поверила своим ушам, когда они сказали: «Конечно».
Я, не очень торопясь, пожала офицерам руки и, притворяясь, что совершенно спокойна, медленно пошла к дверям. Снаружи была тёмная, ветреная ночь. Должно быть, было очень поздно. В деревне не было ни единого звука: русские, по-видимому, тоже были человеческими существами и легли спать, ибо вокруг не было видно даже часовых.
Так закончился наш первый день с русскими.
Когда я лежала рядом с Фифи, она рассказала мне, как её настойчиво пытался утащить с собой Василий. Чуть ли не первые его слова были о том, что он хочет провести с ней ночь. Фифи по-дружески объяснила ему, что в Европе такие дела не делаются столь быстро, как, видимо, это обстоит в России. Василий отвечал, что мог бы понять её отказ, коли был грубым мужиком, но ведь он – школьный учитель. Бедная Фифи с огромным трудом отделалась от него. Ещё какое-то время мы продолжали шептаться, ибо были настолько ошеломлены этим вдруг свалившимся на нас новым, неизвестным миром, что никому из нас не хотелось спать. Но в конце концов сон, тем не менее, пришёл к нам, и в душном тёмном подвале воцарилась тишина.
Наутро на улице было морозно и все ветки были покрыты изморозью. Мы отважились спуститься по каменным ступеням, ведущим на небольшой двор перед домом. Повсюду стояла непривычная тишина, было тихо как в могиле. Мы подкрались к дому. Он был пуст.
Матильда сообщила, что артиллеристы ушли на рассвете. В любом случае, сейчас здесь никого не было, и мы приступили к грабежу собственного дома. Сначала мы пошли в комнату Фифи. Еще не дойдя до комнаты, мы уже почуяли вонь одеколона Виктора, а беглый осмотр показал, что исчезли все одеяла. Как и куклы, которые я сделала Муки для спектакля Панча и Джуди. Куклы не имели значения, но жаль было одеял. Мы обыскали в доме все комнаты, но увы – у нас больше не было ни одного одеяла. И всюду - неописуемый беспорядок, вонь табака, чеснока и портянок, которую не выветришь месяцами. С помощью своего чутья и методов Шерлока Холмса мы быстро пришли к заключению, что Виктор спал в комнате Джека, причём в пижаме Джека.
Впрочем, у меня не было времени переживать о Вдовьем доме, ибо пора было идти в Усадьбу - забирать машину и наводить там порядок. А потому, обвившись своей рукой вокруг руки Джамбо, я через парк отправилась вместе с ним и Тацитом к усадьбе. По пути нам встретилось всего несколько солдат, но на пруду, уничтожая свою последнюю обувь, скользили по льду несколько деревенских мальчишек. Хотя при виде нас они и убежали, но сам факт, что эти крестьянские дети осмелились залезть в парк хозяина Усадьбы, был первым знаком падения старого порядка.
Двор перед входом в Усадьбу встретил нас настолько ужасающим зрелищем, что мы застыли на месте как вкопанные: вся площадь двора была покрыта грудами соломы, сена, кукурузы и настолько завалена бумагами, битым фарфором и посудой, кусками разломанной мебели, разбитым стеклом, бывшими подушками, что было трудно сквозь всё это пройти. Когда мы вошли на кухню, повариха расплакалась - всё излилось из неё: сдерживаемые до того слёзы и жалобы. Всё съестное было украдено, утки и курицы - зарезаны, кладовая - взломана и опустошена. На лице бедной Лины со вчерашнего дня так и застыло окаменевшее выражение. Для неё жизнь уже закончилась.
Перепрыгивая через разломанную мебель, я прошла по комнатам. Выдвижные ящики из антикварных комодов и письменных столов были вытащены и пущены на дрова. Прелестный ружейный ящик послужил кому-то постелью и лежал теперь, перевернутый и набитый сеном, как корыто, в ванной комнате, набита была сеном и ванная. Ни на одной из кроватей никто не спал. Они стояли без белья, раздетые до своих остовов. Видно было, что русские спали на полу, на матрасах. На стенах всё ещё висели картины, и наша (моя с Джамбо) мебель, как ни странно, осталась целой. В спальне Тацита валялась куча разорванных фотографий. Должно быть, они привели кого-то в такое раздражение, что тот взял на себя труд порвать их все на мелкие кусочки.
Увидев всё самое худшее, я пошла назад к Тациту и Джамбо, которые с нетерпением дожидались меня внизу, желая, чтобы я пошла с ними к «генералу», чтобы разузнать о машине и обсудить состояние дома. Как видите, мы всё еще рассуждали по-европейски, воображая, что достаточно знать какого-либо русского, чтобы поладить с русской армией. Нам немедленно предстояло получить урок пренебрежения, который в дальнейшем пошёл нам на пользу, ну а меж тем мы смело шагали по направлению к комнате Элси, откуда доносились мужские голоса. Солдат, встретившийся нам по пути, сообщил, что там осталось еще несколько офицеров, хотя большинство уже отбыло. Мы постучали и вошли. Комната была набита русскими и находилась в неописуемо загаженном состоянии. Трудно было поверить, что это вообще возможно – настолько загадить комнату за двадцать четыре часа, причём не прилагая для этого специальных усилий.
Запинаясь, как это бывает со мной всегда, когда я стараюсь не допускать ошибок в речи, я объяснила, что пришла сюда с владельцем дома и его братом, чтобы обратиться к ним насчет дома и машины. Мне с трудом дали договорить. Я не видела среди них ни одного знакомого лица, глаза у всех были злобными, и все их взгляды, как в едином фокусе, сошлись на мне. «Не надо было оставлять дом!» - рявкнул кто-то из них. Жирный краснорожий офицер извлек остатки формы Рыцаря Мальты, принадлежавшей Джамбо, золотые эполеты, звезду на ленте, и потряс ими перед моим носом.
«Всё исчезло!» - крикнул он, как будто это сделала я, а не его подчинённые. – «Кто сидит дома, у того не пропадет и иголки!»
Я осмелилась заметить, что накануне провела дома всю вторую половину дня, но офицер прекрасно знал, что не прав, и это-то и лишало его самообладания. Джамбо и Тацит ровным счётом ничего не понимали из происходящего, и Джамбо всё подсказывал мне:
«Что с машиной, спроси их, быстрей!»
Я не знала, как заставить его заткнуться. В наивности его поведения было что-то настолько мне незнакомое, что в тот момент, когда рассерженные русские офицеры приблизились ко мне, я резко сказала ему по-французски: «Не суетись, тут ничего не сделаешь».
Я поспешила уйти от русских - к великому удивлению моего мужа и шурина, которые смотрели на меня так, будто я сошла с ума. Офицеры без конца говорили мне, что нам нужно было оставаться дома, и тогда бы ничего не случилось, и я предпочла признать, что они правы, и как можно быстрее уйти прочь, ибо я видела, что им стыдно и из-за этого они злятся. Я поняла их позицию и не хотела обострять дело. Наконец, Тацит с Джамбо осознали, что ничего нельзя поделать, и мы ушли. На улице нам встретился один из офицеров, с которым мы разговаривали накануне - тот самый, с кем я столкнулась в конюшне.
- Они оставили вашу машину? - спросил он добродушно.
Должно быть, ты новичок в армии, несчастный, подумала я.
- - Нет, они забрали её
Наши машины, и вправду, исчезли.
- Понимаете, это всё проклятая война, - попытался утешить меня славный малый. – Нам очень нужны машины, особенно сейчас, когда мы наступаем. Мы вернем их вам после войны. Может, и раньше, - добавил он.
Я видела, что ему тоже немного стыдно и он пытается сгладить произошедшее.
«Ничего», - сказала я с благодарной улыбкой, и побежала вслед за Тацитом и Джамбо. Всю дорогу домой они упрекали меня за недостаток твёрдости. Это неслыханно, говорили они, забрать машину с нейтральными, дипломатическими номерами. Я сдалась уж слишком легко. И так далее. Я не знала, что сказать, но мне казалось, что русские отнеслись ко мне не так уж и плохо...
26-27 декабря
Сразу же после Рождества вся изморозь исчезла. Мы пошли гулять в саду и там обзавелись двумя знакомыми: сержантом Мишковским и его офицером, Григорием. Мы боялись Григория, потому что он никогда не улыбался. Это он пришел вдруг в наше убежище накануне ночью и светил фонариком в наши испуганные сонные лица, говоря, что просто хочет убедиться, что в убежище не спит никто из солдат.
Посмотреть на нас пришли и другие офицеры и солдаты. Для нас все они выглядели одинаково, как для среднего европейца монголы или негры. Русский тип лица можно описать так: он как бочонок, губы широкие и толстые, но весьма ровные, нос картошкой, маленькие глаза. Конечно же, не все лица таковы, но чаще всего к ним хорошо подходит это описание. Типичный русский - низкого или среднего роста, коренастый, с ногами, похожими на столбы от ворот, он излучает здоровье и ходит слегка переваливаясь, как медведь, он невероятно грязный и неопрятный - настолько, что нормальный человек даже не сможет представить себе этого, пока не увидит своими глазами.
Я полагаю, что поскольку русские так много веков ходили небритыми, окладистая борода стала теперь у них символом старого порядка, символом того мира, что они уничтожили, в то время как гладкое лицо должно демонстрировать, что и у них есть европейская цивилизация и культура, а потому в наши дни все русские бреются. Бритьё ввел Петр Великий. Он ненавидел бороды и велел состригать их, как часть прошлого, и эта ненависть, кажется, сохранилась и поныне. Борода Тацита была для русских постоянным источником раздражения и удивления. Они не могли понять, зачем он её носит, и постоянно просили, чтобы он её сбрил.
Мы жили с этими странными людьми уже три дня. По вечерам мы слышали их меланхоличные песни, плывущие сквозь морозный воздух, или крики и рёв, когда они, напившись, ругались друг с другом - ведь они обнаружили во Вдовьем доме принадлежащий Руди запас вин. У нас с Джамбо была собственная коллекция токайских вин[16], и я приложила величайшие усилия для спасения её от солдат. Нам удалось спасти всего одиннадцать бутылок. Мы спрятали часть из них в библиотеке, когда заметили, что русские по большей части не прикасаются к книгам, если только у них не закончатся уголь или дрова. Позже мы обнаружили, что вино им не по вкусу, так что нашего запаса хватило на довольно долгое время.
...Итак, в последние три дня мы жили среди этих здоровых, грязных, подвыпивших парней, большинству из которых, за очень редким исключением, было не более тридцати лет. Как можно назвать НКВД страшной организацией, если ты можешь обсуждать там на допросе желчную болезнь? Из-за своей примитивности и «доморощенности», всё русское проще, ближе к жизни, менее церемонно. Мы с Фифи быстро это прочувствовали и приспособились к такой атмосфере, но вот венгры - они похожи скорее на китайских мандаринов[17], они живут в мире, скованном rigor mortis[18], и эта русская свежесть, сравнимая, быть может, со свежестью американцев, их шокировала и оскорбляла.
В середине дня мы с Джамбо и Джеком пошли в усадьбу, чтобы проверить, на месте ли еще наша мебель, поскольку случилось так, что до сих пор была изрублена и сожжена только мебель Тацита. Впрочем, не могло быть и речи, чтобы увезти её оттуда, даже если бы она и оказалась на месте, ибо весь дом принадлежал теперь Красной армии. Наши надежды, однако, оказались тщетными. Большая часть нашей мебели уже последовала вслед за тацитовой в печки, а на полу нашей комнаты валялись листья и цветы из слоновой кости, которыми был инкрустирован один из столов.
К тому моменту я уже узнала русских достаточно хорошо, чтобы понять, что они сожгли нашу мебель не со зла. Они сожгли её просто потому, что она была под рукой, а также потому, что ни у кого из них не было ни малейшей надежды выручить за какой-нибудь из этих столов или бюро, которые они так небрежно ломали, хотя бы бутылку водки. Кухонные стулья, к примеру, они не сожгли, хотя разломать их на дрова гораздо легче - ибо русский знает, что такое кухонный стул, у него дома есть такой же, и поэтому он его ценит.
На обратном пути мы заглянули в коровник. Коровы, которых вчера не хотели доить солдаты «потому что они чужие», теперь исчезли. Ночью всё стадо просто потихоньку увели. Теперь я поняла, почему Красная армия не голодает, как уверял меня в первый день казачий полковник. Я также поняла, как он, должно быть, смеялся надо мной, когда я от имени хозяина дома предложила им жалкую дюжину баранов. Да, коровы исчезли – как и ботинки Джамбо, как и одеяла, мебель, машины и многое-многое другое, и отчаяние венгров всё углублялось – ведь и за коров не было оставлено никакой расписки. Очевидно, у каждой армии тут есть свои методы, но я должна признать, что у Красной Армии они самые простые.
После обеда мы сидели в убежище, разговаривая, как обычно, о русских, когда услышали на ступенях шаги и к нам вошел краснолицый пожилой офицер. Он представился: Чернышев. Мы заметили, что только пожилые русские представляются по фамилии, молодые же - и офицеры, и рядовой состав – назывались нам лишь по именам. У Чернышева была с собой газета. Он развернул её и по нашей просьбе стал читать вслух. Читал он с трудом, как и большинство русских. Это, конечно, из-за недостатка практики, но в то же время все они знали последние русские книги. Каким образом? Им читают вслух в клубах? Или они знают книги по фильмам? Я не знаю.
Чернышев сложил газету и с приятной улыбкой пригласил весь польский контингент к себе в гости – туда, где он квартировал - на беседу и стакан вина. Его хозяйку зовут Тереза, добавил он, как будто боясь, что мы его не найдем. У Чернышева был галлон[19] вина, на его квартире было тесно и уютно. Он делил комнату со знакомым офицером, Михаилом. Тереза - жена плотника Тацита - стояла позади стульев, на которых сидели два офицера, взглядами и жестами давая нам понять, что Михаил – человек хороший, а Чернышев – нет.
Как всегда, мы с Фифи должны были сначала поведать им истории своих жизней. После наших историй обычно следовали истории наших русских слушателей, а поскольку большинство из них врали как кавалеристы, нам трудно было узнать хотя бы одно правдивое слово, по крайней мере, поначалу. Позже мы стали более опытными и научились разбираться, что к чему. Михаил и Чернышев были одними из немногих, кто не врал.
Чернышев рассказал нам, как по ошибке провел более десяти лет в тюрьме. Хорошенькая ошибка! Я спросила его, как это может быть, чтобы невинный человек провел более десяти лет в тюрьме, а мне с тоном удивления ответили, что в России целые тысячи невинных людей провели в тюрьмах годы и годы. «Боже мой», - сказал Чернышев, - «если б каждого допрашивали и проверяли потом его показания, чтобы определить, виновен он или нет, тогда бы не хватило никаких людей для более важной работы».
Тогда я высказала мысль, что лучше рискнуть и выпустить безнаказанными двух виновных, чем мучить невиновного. Я была воспитана в таком убеждении, но благодушный, честный Чернышев не мог этого понять. Для него всё было наоборот: если невинный проведет в тюрьме десять лет, то для государства будет меньше вреда, чем если на свободе окажется одна опасная личность. Именно такой довод привел Чернышев – он не таил неприязни по отношению к режиму, отнявшему у него десять лучших лет его жизни, поскольку считал, что с ним поступили абсолютно правильно. Мои же доводы оскорбляли его чувство законности и порядка, и в его глазах я была опасной личностью.
...Мы вернулись в убежище замерзшими и еще не успели начать наш рассказ об ужасах с коровой, как с визитом к нам заявились Григорий с Ивашкой Мишковским. Мы извлекли бутылку Токая и, объясняя угрюмому Григорию, что это - вино столетней выдержки, наполнили стаканы. Только мы было собрались вручить один из них молодому и весёлому Ивашке, как Григорий остановил нас.
- «Солдату этого не надо», - сказал он.
Нас удивил такой тон офицера по отношению к солдату, поскольку у нас сложилось впечатление, что в Красной Армии офицеры боятся своих солдат, а не наоборот. Позже мы пришли к заключению, что всё зависит от конкретного человека: некоторым офицерам удается держать своих подчинённых под контролем, другие совершенно неспособны справиться с ними. Однако, какую бы власть не имел офицер, она простирается не далее его непосредственных подчиненных, и железный блюститель дисциплины становится пустозвоном, как только дело касается чужого подразделения.
Вам трудно представить себе, насколько в Красной Армии отсутствует солидарность. Рядовые обычно разделяются на небольшие группы, которые заботятся исключительно о себе. Отношение одной группы к другой обычно враждебное и если офицер или рядовой захочет, чтобы о нем позаботились люди из другой группы, пусть даже то будут однополчане, то в девяноста девяти случаях из ста он получит отказ. Если попадаются отбившиеся от своей группы, то они ходят отверженными, словно одинокие слоны во враждебных джунглях.
Русские сбиваются в стаи как волки, и лидером становится не тот, у кого выше звание, а кто сильнее характером. Конечно, теоретически начальник – старший по званию, но мы несколько раз видели, как старших лейтенантов запугивают сержанты или даже простые рядовые. Крепко сбитая стая никогда не пустит к себе на постой постороннего, и не даст ему еды, они скорее предпочтут наврать ему что-нибудь в лицо и побыстрее от него избавиться, нежели помочь. Позже нам доводилось наблюдать множество стычек между этими группами. Пользуясь методами русских, которые мы быстро усвоили, мы извлекали для себя пользу из этих стычек...
28-31 декабря
Мы начали отскребать и мыть утром двадцать восьмого числа, и продолжали это занятие в течение всего дня. Из деревни пришло на помощь шесть девушек, и за два часа они украли почти столько же, сколько и русские. Мы были крайне возмущены, поскольку до того никогда не представляли себе, что такое коммунизм в интерпретации «народа». Но постепенно становилось ясно, что каждый крестьянин понимал для себя коммунизм вот так, и никак иначе: тащи и хватай - и не только у дворян, а вообще у любого, кто не готов защищать свою собственность. Эти девки стащили сумку и блузку даже из-под носа у Долли, и та до сих пор так и не вернула их назад. Элси с ребёнком и Руди вернулись назад во Вдовий дом.
Следующий день был днем совершенного покоя. Мы были убеждены, что Будапешт пал. Нас обуревало любопытство: что творится в деревне и в Усадьбе? Там тоже нет русских? Мы с Джамбо отправились на разведку, а также для спасения того, что еще можно было спасти.
Деревня была пуста. Всё кругом завалено соломой, кучами кукурузы, гороха и овса, которыми кормили лошадей. Вокруг Усадьбы не было и следа часовых. Она снова наша! Её тоже нужно отскребать и отмывать, ибо Тацит хотел как можно скорее вернуться сюда и занять хотя бы две комнаты, дабы показать, что дом остаётся его собственностью.
Гуляя по опустевшим комнатам, мы начали разрабатывать план кампании: когда нам отправиться в Будапешт и с чего начать уборку в Усадьбе. Из мебели не уцелело ни одного предмета. Всюду была ужасающая грязь: полы, заваленные соломой и усыпанные шелухой от семечек подсолнечника, все окна разбиты, а сквозь них втекает вонь потрохов забитого скота, которыми усеяна вся терраса. С баллюстрады на весь этот веселый пейзаж глядела остекленевшими глазами голова вола.
Взявшись за руки, мы стояли в огромной пустой комнате с полными надежды сердцами. На небесах точно есть Бог, поскольку всё закончилось так хорошо, или нам так казалось – ведь человек привык верить в справедливость Бога, особенно выйдя невредимым из опасности. Тут мы услышали звук приближающейся к усадьбе машины. Что это? Снова русские?
В комнату, где мы стояли, вошел элегантный офицер в аккуратной, чистой форме и в желтоватой фуражке с зелёным околышем.
- Как поживаете, Лида? - сказал он, и направился прямиком ко мне.
- Доброе утро, - с удивлением ответила я, пожимая его протянутую руку. - А откуда вы знаете, что меня зовут Лида?
- Так ведь мы однажды уже встречались, и не так давно, вечером. Разве вы не помните наш разговор в темноте?
Неожиданно я всё вспомнила. Это был тот самый человек, по поводу которого Джек устроил мне сцену, убеждая меня, что я не должна признаваться русским, что бывала за границей.
- Я приехал за вами и вашим мужем. Нас ждёт машина.
- Мы едем в столицу? Она освобождена? - спросила я с надеждой и полная радостных перспектив.
- Да, - ответил офицер с улыбкой, - в столицу. Только побыстрее, машина ждет.
Мы с Джамбо с трудом могли сдержать свою радость. Вероятно, они хотят, чтобы мы рассказали им о гестапо, о сотнях депортированных поляках, о концентрационных лагерях, и т. п. Вероятно, будучи хорошими психологами, они знают, что могут нам доверять. Мы поспешили в машину и заехали во Вдовий дом забрать наши вещи, поскольку офицер сказал, что поездка продлится несколько дней. Во Вдовьем доме мы вызвали сенсацию: Джамбо с женой едут в Будапешт! В большом возбуждении Фифи уложила для нас чемодан, побросав в него лекарства Джамбо, сигареты, бритвенный прибор, в то время как офицер вежливо торопил: «Быстрее! Быстрее! Это очень важно!». Мы наскоро попрощались со всеми, почти распираемые гордостью, что играем такую важную роль, что нашу интеллигентность и честность ценят, хотя мы всего лишь ничтожные буржуа.
...Машина неожиданно остановилась на сильно разбомбленной улице напротив крестьянского дома, и нам сказали выходить. Офицер зашел в дом и через секунду вышел снова, чтобы отрывисто сказать нам, что ночевать мы будем здесь. Был декабрь, и уже становилось темно. Поскольку, когда мы уезжали из дому, у нас не было времени поесть, мы проголодались. Нас удивила неожиданная перемена в голосе офицера, а когда он, не сказав ни слова, залез в машину и уехал, в наших сердцах зародилось нехорошее предчувствие. Вооруженный охранник провел нас через крыльцо в расположенную справа маленькую комнату, и мы услышали, как он произнёс: «Арестованные». Кровь застыла у меня в венах, но я притворилась перед собою, что ослышалась, и ничего не сказала Джамбо. Пусть он подольше остается в уверенности, что всё хорошо, и будем надеяться, что мы увидим его родной город.
В маленькой комнате сидели двое: молодой лейтенант с красивым, монгольского типа лицом, и маленький монстр в человечьем обличье – противный старый и грязный венгр с беспокойными, тревожными, горящими черными глазами. Я с улыбкой поприветствовала их настолько вежливо, насколько могла это сделать по-русски. Молчание. Тогда я спросила, можно ли присесть, стараясь говорить так, как будто я свободна как ветер и полностью удовлетворена всем мирозданием и собой. Молчание. Я села и по-французски сказала Джамбо, чтобы он тоже садился.
- Где вы изучали русский язык? - вдруг закричал русский.
В ответ на этот вопрос с моих губ полился целый поток слов, и в течение энного времени я пересказывала нашу с Джамбо историю, то и дело подчеркивая, что я не разговариваю на местном языке, поскольку мне вдруг пришло в голову, что, возможно, они хотят взять меня на фронт переводчиком.
- Что? - перебил старый венгр, наклоняясь к самому моему лицу и сверкая своими пылающими глазами. - Я тебя научу разговаривать. Поняла, что я сказал? Ты прожила здесь пять лет и не выучила язык? Ничего, мы тебя быстро научим. У нас есть способы. Подожди, ты у нас еще запоешь.
Я отодвинулась подальше, поскольку старик мокро шепелявил своим ртом и вонял, и я почувствовала, что могу упасть в обморок. И я испугалась. О Боже, подумала я, дай мне сил всё время продолжать улыбаться, не дай им заметить, как они мне мерзки и как я напугана - и я обязательно найду выход из этой ловушки.
- Видал я таких, - сказал старик офицеру по-русски, - мы с ними скоро покончим. Врёт она или нет – это легко можно проверить, очень легко.
- О, как хорошо вы говорите по-русски, - перебила я, пытаясь придать своему голосу тот беспечный, скучающий тон, которым говорят на коктейль-вечеринках.
- Откуда вы? - спросил вдруг Джамбо по-венгерски. – Где вы изучали русский? Это очень трудный язык. Долго пришлось учить?
- Русская литература, - бессмысленно вставила я, поворачиваясь к лейтенанту, - одна из чудеснейших в мире.
Наш тон был таким свободным и раскованным, а самовыражение таким мягким и невинным, что атмосфера в комнате немного улучшилась. Если даже нас в чем-то и обвиняют, подумала я, у них не может быть никаких доказательств, поскольку с их точки зрения мы невиновны.
Я не знаю, как вел себя Даниил[20] в клетке со львами. Я вела себя в своей клетке так, как будто мои львы были невинными котятами. Я звала их «хорошими кисками» и протягивала руку, чтобы почесать им за ухом. Чтобы развлечь их, я даже притворялась мышкой - ведь даже благородный лев всегда остается котом. И я изо всех сил старалась показать им, что ни на одно мгновение не допускаю даже вероятности, что они захотят меня съесть.
Джамбо взял на себя старика, а я - молодого офицера. Не давая им опомниться и вставить хоть одно слово, мы закидали их вопросами. Я рассказывала фантастические истории о вымышленном русском майоре, моем большом друге; Джамбо рассказывал истории о том, как его пытали в гестапо – и всё это с непринужденностью бывалых людей. Эта техника была русским совершенно незнакома. Ведь сколько времени вы должны убить, чтобы ею овладеть! Сколько еще пройдет лет, прежде чем русские овладеют этой европейской техникой пускания пыли в глаза? Даже живущие в центре Европы немцы и то не овладели ей. Конечно, у русских есть собственные методы дипломатии, основанные на вековых обычаях Востока. Но только Западная Европа с её культурой и шармом превратила эту дипломатию в настоящее искусство: поэтому даже самый тупой, но привыкший вращаться в обществе европеец, отточивший ловкость своего языка как профессиональный фехтовальщик свою рапиру, обведет вокруг пальца лучшего агента ОГПУ.
Наших мучителей взяла от нас такая скука, что они вышвырнули нас в другую маленькую комнату с левой стороны от крыльца. Я представляю, с каким облегчением они захлопнули за нами дверь. Немцы нас за такую болтливость, наверное, просто бы расстреляли.
Мои нервы были так напряжены, а ум настолько сосредоточен, что у меня просто не оставалось времени для страха, хотя я и поняла, что мы оказались в руках НКВД. Комната, в которой мы теперь оказались, была гостиной. Половину её занимали две квадратные кровати с набитыми соломой тюфяками. На одной из них полулежала молодая девушка с темными волосами, рядом с ней был старик-солдат. На стульях сидела пара оборванных, небритых венгра. В комнате было еще два русских солдата с висящими на шеях автоматами.
Мы быстро познакомились. И снова, не перемолвившись между собой ни словом, с совершенной согласованностью я взяла на себя русских, а Джамбо - своих земляков. Старик оказался весьма разговорчивым. Его звали Максимом и он был из Рутении[21]. Девушка была еврейкой, прятавшейся по подложным документам в соседней деревне. Когда пришли русские и освободили её, она присоединилась к ним и теперь следовала за ними повсюду. Сейчас она лежала на кровати и пудрила лицо. Ныне для неё настала фактически райская жизнь. Она наслаждалась свободой как молодое животное. Встав с кровати, покачивая бедрами и бросая вокруг уничтожающие взгляды, она вышла из комнаты. Она была хорошей девушкой, хотя многие, наверное, с этим бы не согласились.
- Она – потаскуха, - прошептал мне Максим. – За вчерашнюю ночь у неё было десять мужиков, и теперь она не хочет спать со мной. Скажи ей, объясни ей, что я её люблю, что она не останется внакладе. Понимаешь, она притворяется, что не понимает. Ты – соотечественница, и должна помочь мне. А если она не захочет, может, захочешь ты? Я тоже дам тебе что-нибудь, потому что ты одна. Ну, Лида, скажи мне, ты согласна? Ты ничья и с тобой можно говорить.
Вот за такими разговорами мы и скоротали время до вечера.
В шесть часов – восемь часов для русских[22] – повар Васька начал готовить ужин. Джамбо, измотанный разговорами со своими земляками, растянулся на свободной кровати. Вернулась темноволосая девушка и, прислонив кусок разбитого зеркала напротив закопченой керосиновой лампы, начала тщательно раскрашивать лицо. Она вносила в эту ужасную комнату, в которой витал запах человеческого страха, аромат подлинной радости жизни. Она была здесь единственной, кто ничего не боялся, и её беззаботное состояние каким-то образом передавалось всем присутствующим.
..Было уже очень поздно: измотанные, с тревогой на душе мы почти засыпали, как вдруг распахнулась дверь - допрос.
Сначала они вызвали меня. Через тёмную улицу меня повели в дом напротив. Я шагала почти радостно: пусть будет хоть что-нибудь – это лучше ожидания. По дороге я вспомнила напуганные немые лица арестованных крестьян, из которых Джамбо так и не смог вытянуть хоть что-нибудь. Зачем они забрали этих бедных чертей? Впрочем, у меня уже не было времени раздумывать об этом - я оказалась в крохотной приятной комнате с большим столом посередине, вокруг стола – стулья, на каждом из них по офицеру, и все смотрят на меня. Я узнала только одну пару глаз – моего маленького мучителя из Моры с вздёрнутым седлообразным носом. Он наверняка опять начнет своё бесконечное: «Ты врешь, Лида!».
- Товарищ полковник, переводчик не нужен, - сказал мой приятель. С одного из стульев встал сержант и лениво, руки в карманах, вышел из комнаты. Значит, меня будут допрашивать без переводчика! Это было не очень хорошо. С переводчиком у обвиняемого всегда больше шансов, и меньше ответственности за свои слова.
Допрос начался и продолжался долго, очень долго. Я не буду детально описывать всю эту бессмыслицу, скажу лишь, что всё было связано с островом Мальта.
- Что такое Мальта?
- Остров в Средиземном море.
- Нам это известно, - рявкнул полковник. – Я просто хотел убедиться, знаете ли об этом вы. Я – географ, и знаю каждый остров.
Они хотели знать, что я делала на Мальте, так как у них была информация, что я там была. Я сказала им, что ездила просто посмотреть на остров. «Ага! Простая туристка», - медленно и насмешливо произнес полковник, оглядываясь на остальных – те прыснули от смеха. «Чего они хотят?», - думала я. – «Как я могу отвечать, если не знаю, чего они хотят?»
В паузах я пыталась придать нашему диалогу более светский характер. Я даже процитировала отрывки из пушкинских «Руслана и Людмилы» и «Онегина», которые, бог знает зачем, выучила однажды в молодости. Один из офицеров был заметно впечатлен этим доказательством моего высокого культурного уровня: он сначала подсказывал мне, а затем продолжил сам, продекламировав стихи музыкальным, эмоциональным голосом. Пушкин, должно быть, разбудил в нем частицу Орфея[23], ибо когда его превосходные строки лились в тишину комнаты, они начинали околдовывать словно волшебные заклинания. Полковник, бесстрастно сидя с каменным лицом, не перебивал. «Погоди, палач», - думала я, - «я научу тебя не мучать по ночам невинных людей». Но как его научить, я не знала. Мой страх, однако, прошёл. Хуже всего входить в клетку. А как только ты внутри, всё, что тебе остается, это сказать: «Хорошие киски», и поглядеть, что будет.
Наконец, отворилась дверь: привели Джамбо. Вслед за ним вошел ранее покинувший комнату приятный сержант: это был переводчик, чех. Джамбо стали допрашивать через переводчика, в то время как мне приказали сидеть тихо, не перебивать и не вмешиваться ни при каких обстоятельствах. Постепенно многое прояснилось.
Полковник хотел знать, что за ордена и странная форма были обнаружены в Усадьбе. Джамбо объяснил, что это ордена и форма Рыцаря Мальтийского Ордена. Тогда полковник спросил, почему у мальтийцев имеется своя форма, и почему они хранят её в шкафах венгерских домов, тогда как сам остров принадлежит Великобритании. Джамбо объяснил, что религиозный орден Рыцарей Мальты не имеет отношения ни к Великобритании, ни к обитателям Мальты, но находится под покровительством Папы римского.
Тут полковник спросил, почему тогда Папа во время войны пошел против Британии и дал убежище британским подданным в фашистском Риме[24]. Джамбо попытался объяснить, что Рыцари Мальты покинули остров еще в то время, когда его оккупировал Наполеон. Полковник не смог этого переварить и велел переводчику сказать Джамбо, что ему с трудом верится, будто народ Мальты сидел все эти годы в Риме, а не вернулся спокойно домой, где по крайней мере в течение столетия всё уже было тихо и мирно. Будучи терпеливым человеком, Джамбо повторил, что мальтийцы и Рыцари Мальты – это две совершенно разные вещи, и объяснил полковнику на пальцах, что Орден Мальты – это суверенное государство с послами во многих столицах Европы, но члены его рассеяны по всему миру.
Теперь полковник хотел знать, как Джамбо, никогда не бывавший на Мальте, неожиданно и без всяких видимых причин стал мальтийцем. Джамбо вздохнул, взывая к небесам, и сказал, что он не стал мальтийцем и точно никогда им не станет, но что он – Рыцарь Мальты, и что это - почетный знак отличия в некоторых странах Европы. Почетный для кого, хотел знать полковник, для Джамбо или для мальтийцев? Джамбо с улыбкой отвечал, что это почетно для него.
Русские, казалось, были уверены, что открытие ими Ордена Рыцарей Мальты навело их на след новых, тайных врагов пролетариата, и они продолжали мучить Джамбо. Если можно быть мальтийцем и не жить на Мальте, то где и как Джамбо стал мальтийцем? Джамбо отвечал, что звание было присвоено ему Римом, поскольку это католический орден. Теперь всё стало ясно: итальянцы, действуя через своего Папу против Англии, еще со времен Наполеона предоставляли убежище тем гражданам Мальты, кто был недоволен британским правительством. А эти люди создали свою организацию с собственными орденами и формой, которая теперь действует в русском тылу. Эти люди не вернулись на Мальту точно так же, как белые эмигранты никогда не возвращались в Россию, и известно почему. Всё стало ясным как божий день[25].
В течение этого бесконечного допроса мы узнали, что полковник – не только географ, но и профессор истории. Историю Европы он не изучал, но разумеется, прекрасно знал историю всех остальных частей света. Правда, у нас не было случая в этом убедиться. Когда обе стороны уже были вымотаны, а Джамбо – то ли полковник Мальты, то ли мальтиец - все еще не понимал, чего от него хотят, нас отправили назад в нашу комнату, пообещав продолжение на следующий день.
В четыре часа утра Васька начал раздувать в темноте огонь, поскольку для него было уже шесть часов. Спустя мгновения комната вдруг наполнилась плачущими женщинами и детьми. Это были хозяева дома. Из-за близости фронта они целыми днями сидели в погребах и появлялись в доме только перед самым рассветом, чтобы, используя короткий перерыв в боевых действиях, который всегда бывает в это время суток, добыть в доме горячую еду. Джамбо попытался успокоить плачущих женщин, но сделать это было невозможно. И неудивительно, ибо из излитого ими на нас потока слов мы узнали, что накануне вечером пьяные русские залезли в погреб, где собралась вся их семья, выставили женщин постарше на улицу, силой напоили до смерти хозяина дома - единственного мужчину в семье, а потом несколько раз изнасиловали его десятилетнюю дочь.
Помочь никто не смог. Солдаты так шумели, что заглушали крики девочки, а их друзья сторожили женщин снаружи погреба. Когда девочка потеряла сознание, они убежали. Теперь женщины отнесли истекающую кровью девочку к её бабушке, а её мать привели к нам. Они не давали ей пойти к дочке, но пытались успокоить её простыми, выразительными жестами и мимикой своих лиц. Это была сцена, напоминающая Матерь Скорбящую на старых картинах Средних Веков: эти грубые, окаймлённые платками лица, тёмные фигуры, окружающие мать, сходящую с ума от горя[26]. Несмотря на ужас произошедшего, эти женщины ни на мгновение не потеряли своего чувства театральности, как будто бы они играли в спектакле Страстей Средних Веков[27]. Когда я сидела и наблюдала за этим воскрешением готического духа, я как будто бы смотрела на нежданно оживший алтарь Средних Веков: это была чудесная, очень человечная и наивно реалистическая театральная постановка, её реализм был обрамлен искусством, слит с ним и сформировал незабываемое целое.
Я перевела рассказ женщин о произошедшем Ваське и с любопытством наблюдала, какова будет его реакция. Васька был флегматичным, приличным малым около сорока лет, который был солдатом уже четыре года.
- Дуры проклятые, эти бабы, - медленно произнес Васька, качая головой. – Чего они не остались в доме? Они боятся бомбежки и прячутся в норах. А нам что делать? Я целый день здесь работаю, и ты хочешь, чтобы я всю ночь ходил вокруг их погребов и охранял маленьких девочек? Что? У нас на Украине немцы насиловали девушек, а потом их убивали, вот что они делали. А наши придурки научились у них, но они никогда не убивают, даже когда напьются. Немец насиловал, потом доставал свой револьвер - и девушке конец. Понимаешь, в чем разница?
Я чувствовала, что Васька собирается перейти к рассказу о том, как немцы убили всю его семью, но тут, к счастью, вмешался Максим, которого в конце концов разбудили крики женщин.
- Я уже не раз думал, что придумать с этими девочками. Если фронт долго будет стоять на месте, девочкам будет плохо.
- И для вас тоже будет плохо, - вставила я. – Что они будут думать о вас? Останутся ли в деревне приятные воспоминания о вас? Вы должны подумать об этом.
- Я думаю, - ответил Максим. – Я как раз думал, что нужно запирать всех девочек на ночь в одной комнате. Но это тоже будет плохо. Парням будет еще легче их найти. И подумай только, как для них это будет удобно - что все они в одной куче. Для их охраны понадобится целый полк, потому что наши парни сойдутся отовсюду, когда узнают, что все девочки - в одной куче. Я знаю, сколько нужно искать, чтобы найти хотя бы старуху. Так что собрать их всех в одной комнате - это плохая мысль. Видишь, я думаю об этом, но я вижу, что ничего нельзя сделать. Просто так оно и есть. Когда идёт война, лучше не иметь детей. Твоего сына убьют, дочь испортят, и что бы ты не думал, всё бесполезно.
...Мы въехали в новую деревню и опять начались рутинные поиски штаба. Знаете, сколько времени потратил наш возница на его поиски на этот раз? Он искал его с трех до одиннадцати часов. В этом маленьком поселке мы непрерывно искали штаб в течение восьми часов, и из этих восьми часов шесть мы провели в ожидании на улице, при этом с нами обращались то как с друзьями, то как с опасными преступниками.
Мы начали со сквозного проезда через весь поселок, с одного конца на другой и обратно, останавливаясь там и сям, в то время как возница, нужно отдать ему должное, добросовестно собирал всю возможную информацию, которая могла бы привести нас на порог штаба. Он также искал конюшню, но как и ожидалось, его, как залетного бродягу, вышвыривали отовсюду, куда он ни пытался заехать.
Уже сгущалась темнота, когда мы остановились у очередного дома. Наш солдат исчез в дверях, перед которыми расхаживал туда и сюда часовой. Джамбо вылез из телеги и сел на чемодане посреди улицы, положив голову на руки и пытаясь отдохнуть. Мы уже забыли, как мы здесь очутились, мы просто тщетно искали убежища от ледяного ветра под свисающими карнизами дома. Маленький поселок вымер, большая его часть лежала в руинах. Неожиданно, пока мы корчились от ветра, во всем мире настала тишина, а следом из темноты выплыла луна, как жемчужина возлежа в раковине чёрного бархатного неба.
Я ощущала себя безнадежно покинутой и полной страха. Перемешавшись со страхом, во мне было и другое чувство, которое я назвала бы скорее печалью, чем меланхолией, ибо в таких условиях для меланхолии нет места. Меланхолия – непозволительно редкая роскошь, а на душе у меня тогда не было достаточно покоя, чтобы побаловать себя ею хотя бы в течение пяти минут. Простые люди обычно не предаются меланхолии; они тревожатся, беспокоятся, или у них просто плохое настроение, но настоящая, истинная меланхолия, подлинные истоки которой неизвестны, им чужда.
Маленький часовой, стуча ногами от холода, подошел к нам.
- Зачем вы сюда приехали? - спросил он детским голосом. Его лицо оставалось почти невидимым в темноте.
- Я не знаю.
- Где вы изучали русский язык? Как вас зовут? Сколько вам лет?
И снова, под аккомпанимент непрерывного постукивания ног маленького часового, начался обычный русский разговор. Странными были те вещи, о которых мы говорили в этом опустевшем, разрушенном поселке, дрожа от мороза и ледяного ветра.
- Мне, - сказал маленький часовой, - всего девятнадцать. Я в армии уже два года. Я доброволец. До этого я ходил в школу и собирался в университет.
- Что вы изучали?
- Всё. Я уже всё знаю.
- Что, например?
- Хорошо, что вы спрашиваете об этом, но сами-то вы культурные люди? Вы получили образование? Я изучил всю литературу и музыку, но вы, может, думаете, я вру? Ладно, давайте посмотрим, что знаете вы.
И маленький солдат неожиданно лукаво спросил:
- Какая опера - самая лучшая?
- Я не знаю, - ответила я. - Опер так много и они такие разные, что самой лучшей попросту нет. Ты можешь только сказать, какая тебе больше всего нравится.
- Нет, нет, неправильно. Вот и пожалуйста. Вы не знаете. Вы это не изучали. Я знаю, какая самая лучшая – Риголетто, а вторая – Тоска, а третья, кажется - Кармен, не помню точно. Понимаете, на фронте ужасно легко всё забываешь. Но третья на самом деле не так важна, главное – первые две.
- Хорошо, - ответила я, в темноте он не мог разглядеть моей улыбки. - А литературу ты знаешь?
- Которую? Понимаете, я знаю их все: английскую, немецкую, французскую, и разумеется нашу собственную. Да, я не прочел всего, но я знаю, кто что написал. Я..., - парнишка говорил так быстро, будто боялся, что я вдруг исчезну, и он снова останется один, - мне больше всего нравится французская, потому что французский язык самый красивый. Вы знаете об этом?
- По нам, так нет самого красивого языка. Каждый любит больше всего свой.
- О, нет! Это неправильно. Я не знаю французского, это жаль, но я знаю, какой самый красивый. А вы знаете русскую литературу?
- Да. И старую, и новую.
- Я предпочитаю старую, а вы? - и, не дожидаясь ответа. - Что вам нравится больше всего из Льва Толстого?
- «Детство», «Юность» и «Война и мир».
- Вы неправы. Вы снова ответили неправильно. Самая его чудесная книга – это «Анна Каренина». Вот видите? Вы не знаете. Вы думаете, это «Война и мир». А лучшие немецкие писатели – это Шиллер и Гёте, английский – Шекспир, французские – Золя, Виктор Гюго и Мопассан. Кто вам больше нравится – Лев Толстой или Мопассан?
- Толстой, - ошарашенная, ответила я, - если уж необходимо выбирать.
- Неправильно! Неправильно! - торжествовал паренёк. – Вы не знаете. Снова вы не знаете. Ясно, что лучше Мопассан, потому что французский – самый красивый язык. Вы что, никогда не были в университете?
- Нет, - стыдливо ответила я, думая про себя: О Боже, чему они там учат этих бедных детей?
- А ты знаешь французский? - спросила я. – Ты сам сказал, что нет. Почему же ты так уверен, что французский язык - самый красивый?
- Нет, - ответил из темноты со вздохом детский голос. - Нет, я не знаю французский, но я всё знаю насчет него. А лучшие музыканты? Давайте, назовите мне, какие были лучшие музыканты. Ведь вы должны быть культурными, образованными.
- Я культурная и образованная, но все равно не знаю, какие были лучшими. Лучших много, и каждый выбирает из них того, который больше нравится.
- Ну вот! Снова вы не знаете. Вы просто хотите уйти от ответа. А еще говорите, что образованы! Разве это образование. Три лучших музыканта - это Бах, Бетховен и Мольер.
- Кто? - переспросила я.
- Мольер, - в этот раз совершенно чётко повторил детский голос.
Я не стала поправлять его. Какая в том польза?
В конце концов, наш возница нашел - правда не штаб, а конюшню. Она находилась в полуразрушенном доме, где была комната, в которой нам позволили погреться.
Мы проследовали за возницей в эту тёмную комнату, где изрыгала дым железная печка, покрытая вместо крышки продырявленным оловянным тазом. Мы ничего не могли разглядеть в дыму: казалось, мы попали внутрь камина. Половину комнаты занимала кровать, сымпровизированная из лежащего на боку гардероба, и с неё раздавался храп нескольких людей. На столе стояла, как обычно без абажура, чадящая лампа, а вокруг сидели офицер и несколько солдат.
Когда возница вышел и оставил нас одних, нас одарили молчанием и враждебными взглядами. Чей-то голос в темноте произнес: «Нам попались немецкие шпионы». Я немедленно задействовала свой метод «хороших кисок», весело изложив нашу собственную версию того, как мы сюда попали, и моля бога о том, чтобы не появился возница, могущий уличить меня во лжи. Я поведала им, что нас привезли сюда специально на встречу с полковником, так как у нас есть для него важная информация, как добры были к нам русские, какой чудесной едой они нас кормили, как они давали нам сигареты - по две пачки в день, и размещали на постой в лучших домах. Разумеется, здесь, на фронте, всё было по другому. Мы просто зашли погреться, а полковник сейчас пришлет за нами.
Этот рассказ несколько улучшил атмосферу и, в качестве знака благоволения, Джамбо дали почитать какие-то старые журналы. Пару раз меня перебивали, утверждая, что я вру и что я шпионка, но постепенно разговор перешел на интимные темы, подобающие среди настоящих друзей.
- Слушай, ты! Что у вас, в вашей стране, есть от сифилиса?
Я в изумлении уставилась на капитана.
– От сифилиса?
- Ну? - нетерпеливо сказал офицер. – Ты что, не знаешь, что такое сифилис? У тебя никогда его не было? - И, чтобы развеять всякие сомнения, он показал мне туда, где им заражаются.
Эта тема заняла много времени и развилась в дискуссию о самом эффективном лекарстве. В целом, им была признана водка, крепкая водка, потому что она «жжёт кровь». В дискуссии приняли участие все солдаты, и когда час спустя вернулся возница, в этой адской норе царила самая лучшая атмосфера. Метод «хорошие киски» имели успех.
Возница объявил, что он в конце концов встретил кого-то, кто был уверен, что штаб находится в деревне. Солдаты давали ему советы как продолжать поиски, мы же безропотно слушали, а по нашим лицам катились слезы – наши глаза были воспалены от дыма. Мы были голодные и сонные, и нас уже не заботило, будут ли нас сегодня допрашивать или нет.
Волна ледяного воздуха ворвалась в лачугу, когда в неё влез маленький русский с жестяным котелком, который он протянул нашему вознице (солдаты в лачуге ни за что в мире не накормили бы его). Мы с завистью смотрели на парня, нарезающего жирные куски мяса. Последний раз я ела в шесть утра, ибо я даже не притронулась к картошке, принесенной нам после обеда. Возница заметил мой жадный взор и, произнеся «Держи!», дал мне доесть остатки на дне котелка. Не возмущайтесь! Парень, несомненно, считал нас опасными подрывными элементами и, будучи нашим возницей, не был обязан нас кормить. То, что он дал мне остатки от своего ужина, говорило о том, что у него доброе сердце. Я думаю, ему стало нас жалко, но как он мог проявить это? И кроме того, он боялся эту сидящую вокруг стола незнакомую компанию.
Мы снова отправились на поиски штаба, в этот раз пешком. Проходя сквозь этот мёртвый поселок, мы слышали только глухой звук собственных шагов да скрип снега от сапог часовых. Мы шли так быстро, что не чувствовали ледяного ветра. Наконец, мы остановились перед неким домом и наш возница исчез внутри. Прислонившись к стене, я опустилась на снег и позволила своим векам закрыться.
Мы с Джамбо уже давно прекратили разговоры друг с другом. Раньше мы всегда обещали друг другу: что бы с нами ни случилось, мы всегда будем веселы и будем шутить по этому поводу, но сейчас мы обнаружили, что у нас не хватает сил даже на разговор, хотя с нами пока ничего и не случилось. Дверь дома постоянно открывалась и закрывалась: в темноте в неё заходили и выходили офицеры с папками в руках. Никто из них даже не взглянул на нас. Может, наконец, это был штаб? Но нет! Прошел час, и наш возница вышел на улицу, и мы вновь стали бродить по пустым улицам между рядами разрушенных домов. Почему не наступает рассвет? Вдруг из-за угла появился маленький коренастый офицер и пошел за нами. Это был он - майор Ковальчук - человек, которому предстояло нас допрашивать, но всё это мы узнали несколько позже. Мы шли вместе, пока не подошли к большому дому на главной улице, где и остановились. Я как следует осмотрелась вокруг, чтобы потом, если потребуется, узнать это место при свете дня.
Джамбо заставили ждать во дворе, а меня провели и заперли в темную и грязную комнату. Вначале я подумала, что я тут одна, но затем услышала равномерное дыхание спящих на полу людей. Из-за стены доносились звуки: люди в соседней комнате кричали и ругались между собой. Из чистой скуки я прислушалась: они играли в карты. Когда же эти русские спят? Или они совсем не спят? Вошел незнакомый солдат и позвал меня на допрос. Бедный Джамбо - стоя на улице, он точно заработает воспаление легких.
Я прошла через темную прихожую и неожиданно оказалась в ярко освещенной комнате. Должно быть, здесь заседал член НКВД высокого ранга, поскольку в первый раз за всё время на столе стояла нормальная лампа - чистая и с целым абажуром. Комната была типичной для дома провинциальных буржуа, а за столом сидел тот самый коренастый майор, что присоединился к нам на улице. Итак, всё началось сначала, однако, майор разговаривал вежливо и спокойно, и я с облегчением вздохнула. Почему бы им всем не быть такими?
Всё шло как по маслу, не считая мой небогатый запас русских слов, пока мы не подошли к Мальте. И снова этот трижды-проклятый остров стал камнем преткновения. Послали за Джамбо и переводчиком - жалким, приятным крестьянским парнем из соседней католической семинарии. Джамбо начали допрашивать через переводчика, а меня выпроводили из комнаты. Когда меня вызвали снова, речь всё еще шла о Мальте.
- Сколько зарабатывает Рыцарь Мальты? - спросил майор.
- Это почетное звание, - мрачно ответил Джамбо.
Затем русский захотел узнать о политике Рыцарей Мальты, а терпеливый Джамбо ответил, что у них нет никакой политики. «Никакой», - повторил переводчик. Джамбо продолжил, объясняя, что Рыцари время от времени созываются на конгрессы, но эти конгрессы не касаются политики. При слове «конгресс» майор навострил уши – он снова был поглощён своими подозрениями. Он выглядел как напавшая на след ласка. Маленький переводчик принял сторону Джамбо и прекрасно всё переводил, но он не был способен проникнуть в голову майора. Тут ко мне пришла блестящая идея.
- Товарищ майор, - начала я с очень серьёзным лицом, - в отсталых странах Европы общественные институты развиты не так хорошо, как в Советском Союзе. Частной инициативе часто приходится брать на свои плечи то, что в России – забота государства. Эти Рыцари Мальты взяли на себя обязанности по постройке больниц.
И я с чувством добавила:
- Они строят госпитали[28].
Я расширила эту тему, молодой переводчик согласно кивал вслед за потоком моих слов. К концу своей речи я сделала из этой снобистской ассоциации праздных сынов аристократии организацию благодетелей бедного страдающего человечества. Майор спокойно слушал, а затем прекратил допрос, пообещав дальнейшие распоряжения утром.
Он лично отвел нас по пустым улицам в брошенный дом, где мы должны были провести ночь. Мы вежливо поблагодарили его. Мы снова возвращались на положение гостей.
В доме совсем не оказалось места – повсюду спали солдаты, поэтому майор выгнал из одной комнаты первого попавшегося ему офицера и дал нам его кровать. Пришел часовой и помог мне растопить печку, а затем принес мясо, пельмени и горячий чай. Было уже очень поздно, когда мы вытянулись на узкой кровати и натянули на себя наши овечьи полушубки. Какое блаженство! Когда я погасила лампу, на полу играли маленькие оранжевые блики из печки, а в пламени трещали дрова.
Утром я вспомнила, что на дворе канун Нового года. Джамбо побрился - для этого солдатик принес ему воды. Русские, как вы знаете, имеют страсть к бритью и симпатизируют тем, кто хочет удалить с лица свою щетину. Нам снова дали чая и превосходных пельменей. Джамбо стал с жадностью есть и задавать вопросы. Ты как следует поблагодарила майора? Ты сказала ему, как мы рады приходу Красной армии? Пока он запивал пельмени чаем, я успокаивала его. Да, конечно, конечно же!
Теперь мы знали, что майор был человеком и довольно хорошим, и что он не держал нас за преступников. Конечно, у него все еще могло быть наихудшее из возможных представление об Ордене Рыцарей Мальты, членов которого он подозревал в том, что они опасные - ибо неизвестные - враги Советского Союза. Но существовала и надежда, что я убедила его в обратном. Как раз когда мы обсуждали это, дверь открылась, и вошел сам майор. После одного или двух сердечных «Здравствуйте», он сказал нам, что мы свободны. Мы с трудом поверили своим ушам, хотя опыт подсказывал нам, что возможно всё. Мне хотелось обнять толстого майора, но я воздержалась от этого, поскольку слишком бурное проявление радости могло бы показаться подозрительным.
Майор спросил, в скольких милях от дома мы находимся. «В двенадцати», - ответили мы.
- Хорошо, вы можете либо отправляться сами прямо сейчас, либо подождать до завтра, и я отправлю вас в своей машине.
С невинным выражением лиц мы ответили, что думаем идти пешком, что нам лучше идти прямо сейчас, потому что дома нас ждут дети, после чего Джамбо попросил у майора пропуск.
- В пропуске нет нужды, - сказал с улыбкой майор. - Никто вас не остановит.
Однако Джамбо, неисправимый европеец, не мог двинуться без какого-нибудь документа и настаивал на пропуске. Нам его выдали, и мы гордо отправились восвояси: жуя кусок армейского хлеба, я шла впереди, а Джамбо, с чемоданом, сзади.
В то утро ветер был сильным как никогда. Хотя только-только начало светать, местность уже кишела русскими. Только сейчас мы увидели, насколько сильно пострадал поселок. Мы прошли мимо стоявшей в милом парке усадьбы наших друзей. Она была в разрухе: окна выдраны вместе с рамами, двери вырваны и наполовину сожжены. Здешний урон был гораздо большим, чем в Море. Мы расскажем об этом Тациту. Возможно, это его, беднягу, успокоит. Мы шли быстро и радостно, я поминутно оборачивалсь, чтобы улыбнуться Джамбо, мой рот был набит чёрным хлебом. Никогда еще я не чувствовала себя такой вольной, такой свободной. На краю деревни нас неожиданно остановил солдат. Глаза его злобно блестели.
- Куда вы идете?
- Домой, - ответила я и сунула ему под нос пропуск майора.
- Какой майор? Что мне до вашего майора? Я не знаю этого вашего майора. Майор! Ха! Пошли-ка вы со своим майором! А ну давай назад, откуда пришли!
Он повел нас назад по той же самой дороге, к дому напротив усадьбы. Дом кишел солдатами с зелеными погонами – полевая контрразведка, но тогда мы не знали об этом. Что им от нас надо? Во дворе стояла толпа оборванных фигур с заплечными мешками: видимо, бедняги-крестьяне, схваченные в то время, как пытались пробраться к себе домой через линию фронта.
И вот, всё началось сначала. Где вы изучали русский язык? Сколько вам лет? Как вы сюда попали? Почему ваш муж старше вас? У вас есть дети? Почему нет? Русские - самые пытливые люди в мире. Любознательность и склонность к вранью – вот две главные характеристики русского солдата. Допросив нас, они начали делать - или притворились, что делают – опись личных вещей крестьян. Джамбо помогал им, переводя. Может, после этого они нас отпустят, в тайне надеялась я.
Когда они закончили проверять документы у последнего из этих оборванцев, прозвучал приказ: «Вперед! Марш!»
- И мы? - спросила я, надеясь, что сейчас нас отпустят.
- Вы? О чем ты говоришь? Давай вперед, с остальными!
Они провели нас через двор, сквозь ворота сада, и поставили всех к стене: неприятное ощущение. Крестьяне были явно в ужасе, но не решались произнести ни слова.
- Но наш пропуск! - в отчаянии воскликнула я. – Майор сам выписал его.
Но всё было бесполезно. Мы попали в руки другой команды, другой партии, которая просто смеялась над нашим майором. Все мы стояли спиной к стене, объединенные простым невезением и страхом. Никто не осмеливался открыть рта. Затем русские приказали нам идти, одному за другим. Я перевела это на французский Джамбо, а он повторил крестьянам. Последовал общий вздох облегчения, ибо мы думали, что будем расстреляны - ведь так всё и выглядело, когда все мы стояли спиной к стене, а русские напротив нас с автоматами наизготовку. Тут настал наш черед и нас с Джамбо отвели на небольшой двор. О боги, а я-то думала, что мы проведем канун Нового года дома!
Во дворе стоял низкий рябой солдат с поднятым револьвером в руке. Его кожаная портупея была серой и неухоженной, глаза – злыми и бесцветными, как вода. За ним я разглядела дверь на задвижке, ведущую в нечто вроде конюшни, расхаживающего часового и плачущую молодую женщину в тонком пальто. Рядом с дверью было окно. Оно было заполнено лицами: бледными, небритыми, опустошенными лицами.
- Обыскать, - сказал солдат.
У этой компании явно была мания обыскивать, поскольку нас вообще-то уже обыскивали два раза: раз когда они проверяли документы у крестьян, хотя их и не способен прочесть ни один русский, второй раз - когда мы стояли спиной к стене. Теперь нас обыскивали в третий раз, хотя солдаты и без того чуяли, что у нас в чемодане.
Последовал приказ: «Снять часы». Джамбо послушно, хотя и несколько удивленно, отдал свои часы солдату. «Тебе вернут их после допроса», - заверили его.
При чем здесь часы? Что может быть опасного в часах? Ладно, если они хотят часы, вот они. Я снова попыталась объяснить, что у нас есть пропуск от майора и что они не имеют права арестовывать нас, так как нас отправили домой.
- Мы проверим ваш пропуск, - ухмыльнулся солдат, блеснув своими бесцветными глазами, - а на вашего майора нам всё равно плевать. Это другое подразделение. Кто знает, чем вы занимались с тех пор, как он вас отпустил. Майор! Что для нас майор? Или генерал? Давай внутрь и сидите тихо!
Нас запихнули в дверь, на которую я всё время смотрела, и за нашими спинами стукнула задвижка. На крошечном пространстве, наполовину в темноте, стояла толпа людей - стояла потому, что не было места сесть. Все они были мужчинами, все были бедняками и пахли потом, чесноком и грязью. Джамбо протиснулся в один угол, я в другой, и мы начали первую робкую попытку завести разговор. Вскоре они почувствовали к нам доверие. Мы узнали, что некоторых из них держали здесь без еды уже три дня, но за что, не знал ни один из них.
Затем вошел молодой приятный венгр, местный переводчик, и Джамбо применил на нем свое знаменитое красноречие. Я немногое поняла из этого потока венгерского, но была рада увидеть, что юноша, кажется, был весьма склонен помочь. Уходя, он кивал головой и обещал поговорить с командиром, после чего мы снова услышали звук закрывающейся задвижки. Время тянулось в ожидании. Я ухитрилась найти место, чтобы присесть на корточки – пол был слишком грязен, чтобы садиться на него, даже если это было бы возможно. Толпа заключенных шепталась между собой, хотя многие оставались в молчании, уныло смотря перед собой.
Вдруг дверь отворилась. Часовой позвал меня и я рванулась наружу, вслед за мной через толпу протиснулся с чемоданом Джамбо. Позади часового я заметила приятное улыбающееся лицо переводчика – видимо, всё это организовал он.
- Ладно, идите домой. Вот ваш пропуск.
- А часы? - спросила я, заразившись европейскими идеями Джамбо.
- Лучше не спрашивайте ни о чем, - серьезно сказал 16-летний часовой. – Уходите домой, как можно быстрее. Это не хорошее место. Мой вам добрый совет: уходите.
Я знала, что маленький часовой прав.
- Ты можешь немного пройти с нами, чтобы нас не схватили снова? - спросила я.
- Не могу. Я на посту, - с сожалением ответил он. – Но у них сейчас обед, так что если вы поспешите, то они, наверное, не поймают вас снова.
Мы крепко пожали друг другу руки – между нами установилось взаимопонимание, хотя мы были знакомы всего тридцать секунд.
Я взяла пропуск, Джамбо - чемодан, и как посоветовал нам молодой часовой, мы заспешили прочь так быстро, как только могли. Вскоре мы миновали то несчастливое место, где нас задержали: ни одного русского. Вероятно, у них всё еще обед. Мы прошли последние дома - ни души. Что за чудное время для шпионов!
Мы даже не разговаривали. Мы просто очень быстро шли, боясь бежать, чтобы не выглядеть подозрительно на случай, если нас кто-нибудь увидит. Наконец, мы покинули поселок и вышли на открытую местность. Торжественно пожав друг другу руки и едва веря, что мы свободны, мы направились домой - скорей, скорей домой.
Вдоль дороги были разбросаны телефонные провода и в одном месте в канаве сидели, грея на костре консервы, солдаты.
- Куда вы идете? - прозвучал за нашими спинами голос.
«Стой», - беззвучно прошептала я Джамбо, - «не двигайся. Я пойду и поговорю с ними сама». И я медленно и явно без опаски пошла к ним, жуя свой чёрный хлеб.
- Чего вам надо, парни? - спросила я. - Чего вы тут жарите? Консервы? Я тоже иду обедать. Домой. У меня есть пропуск.
- Ладно, иди! - не найдя во мне ничего интересного, сказали они, и снова повернулись к костру и консервам
[1] Латинские имя Tacitus - «Тацит» и слово tacit - «молчаливый» похожи – здесь и далее прим. переводчика.
[2] Вдовий дом – в некоторых странах Европы, когда умирал владелец поместья, а наследник приводил в усадьбу свою жену, вдова переезжала в отдельный Вдовий дом.
[3] Примерно 1м 80см.
[4] Джамбо – знаменитый цирковой слон, который был привезен из Африки и в 1862-1885гг жил сначала во Франции, затем в Англии и США.
[5] «Кавалер роз» - комическая опера Рихарда Штрауса, созданная в 1909-1910 годах на либретто Гуго фон Гофмансталя.
[6] Замор – мальчик бенгальского происхождения, подаренный королем Франции Луи XV (1710-1774) своей любовнице мадам Дюбарри. Это событие нашло отражение в кино.
[7] Примерно 3 х 5,5 м.
[8] Бекон – солёный или копчёный бок специально откормленной для этого молодой свиньи, из которого готовятся разнообразные блюда.
[9] Мальтийский орден (Суверенный Военный орден госпитальеров Св. Иоанна Иерусалимского Родоса и Мальты) – рыцарский религиозный орден Римско-католическйо церкви, старейший в мире рыцарский орден, в настоящее время имеет дипломатические отношения со 104 государствами.
[10] Видимо, офицер сказал, что он является представителем СМЕРШа. СМЕРШ – сокращение от «Смерть шпионам», органы советской контрразведки во время Второй мировой войны.
[11] Дамасские, или жаккардовые полотенца – полотенца из жаккардовой ткани, т.е. с крупноузорчатым переплетением нитей.
[12] Иван Майский (настоящее имя – Ян Ляховецкий) – советский дипломат, в 1932-1943 годах – посол в Великобритании, с 1943г – заместитель наркома иностранных дел СССР Молотова.
[13] Кечкемет – город в центральной части Венгрии, в регионе Южный Альфёльд.
[14] Ричард Стаффорд Криппс - британский политик, член лейбористской партии, марксист, с мая 1940г по январь 1942г – посол Великобритании в СССР.
[15] Правительство Польши в изгнании после раздела Польши между Германией и Советским Союзом в 1939 году.
[16] Токайские вина – белые десертные вина золотистого цвета, приготовленные из светлых сортов винограда, подвяленных на ветвях под солнечными лучами, обладают привкусом изюма и специфическим букетом с медовым тоном, производятся в регионе Токай-Хедьялья на границе Венгрии и Словакии начиная с XV века. Токайские вина пользовались успехом при монархических дворах Европы, ценителями токая были Вольтер и Гёте.
[17] Китайские мандарины – от порт. Mandarim – «министр, чиновник» – название чиновников в императорском Китае, которое им дали прибывшие в Китай португальцы.
[18] Rigor mortis - лат. трупное окоченение.
[19] Галлон – около 4 литров.
[20] Библейский Даниил в результате козней приближённых короля Дария был брошен в клетку со львами, но благодаря помощи бога вышел оттуда невредимым.
[21] Рутения – здесь область на границе Венгрии и Западной Украины (а до 1939 г - Польши), населённая рутенами; в настоящее время часть этого этноса называет себя русинами.
[22] Красная армия продолжала жить в Европе по московскому времени.
[23] Орфей – в древнегреческой мифологии легендарный певец и музыкант – исполнитель на лире, чьё имя олицетворяло могущество искусства.
[24] Советская пропаганда обвиняла Папу римского Пия XII в сотрудничестве с фашистами.
[25] Мальтийский религиозно-военный орден был учреждён в 1099г в ходе Первого крестового похода, вслед за захватом Святой земли мусульманами продолжил свою деятельность на Родосе, а после падения Родоса с 1522г располагался на Мальте. После захвата Мальты Наполеоном в 1798г российский император Павел I предоставил рыцарям убежище в Санкт-Петербурге, в 1834г Орден учредил свою штаб-квартиру в Риме. В наше время членами Ордена являются 13тыс. человек.